В постсоветскую эпоху некоторые историки Кавказской войны возлюбили юбилейные даты какой-то странною любовью. Им эти даты нужны не как повод для серьезного профессионального разговора, а как возможность прочнее укрепиться в окопах уже другой войны – современной, информационно-идеологической, сугубо пропагандистской. Укрепиться любыми способами, всеми правдами и неправдами, старыми и новыми мифами, не брезгуя даже услугами нерукопожатных пиар-поденщиков. Потому что нет больше правил и культуры научного спора. Есть поле боя и идейный враг, оскверняющий своим инакомыслием заповедные территории национальной памяти о великих героях прошлого.
Обращаясь к юбилейной теме, автор данной статьи преследует, возможно, недостижимую цель: придать дискуссии, в которой стороны отказываются не то, чтобы понять, а просто услышать друг друга, хотя бы какие-то творческие, конструктивные очертания. Сам пребывая в бесконечном поиске, сомневаясь во многих своих идеях, я не смею призывать кого-либо соглашаться со мной. Признаюсь в этом с надеждой помочь моим критикам сберечь их полемический пафос для более рационального применения. Не хочу настаивать даже на том, в чем уверен до сих пор, – на необходимости формирования высокопрофессиональной среды, где сами собой возникнут условия для плодотворного обмена мыслями, для нового дискурса, в котором наука все же потеснит фобии и неврастеническую тональность, выдвинув на передний план современную познавательную методологию.
Здесь я предлагаю свое вѝдение [1] лишь некоторых аспектов необъятной картины Кавказской войны. И лишь для тех, кому это интересно.
* * *
Нет более популярной иллюзии среди исследователей Кавказской войны XIX века, чем убеждение в возможности «научно» и «объективно» решить эту историческую проблему раз и навсегда. Такие интеллектуальные узлы не развязываются в принципе. Но и разрубив их, всего не увидишь. Или увидишь по-своему. С того идеологического и мифологического ракурса, который тебе по душе.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
Ни в коем случае не теряя энтузиазма к предмету своего профессионального интереса, историкам, вместе с тем, желательно бы трезво усвоить, что впереди их не ждут великие открытия. Да и слава Богу! Сегодня они только обострят столь чувствительную тему. Начнутся новые войны мифов, сеющие ненависть между народами. Войны, где победители по большому счету окажутся в проигрыше. Интеллектуально-профессиональном, идеологическом, моральном.
Проблеме Кавказской войны нужны не гении, решающие «теоремы Пуанкаре», а армия добросовестных тружеников, вооруженных новейшим арсеналом комплексных гуманитарных знаний, терпеливо пропахивающих бескрайнее поле фактов, событий, идей, чтобы воссоздать более или менее достоверную картину «того, что было». Она никогда не отобразит ни «всей правды истории», ни «полной объективной реальности». Но это будет нечто вероятностное, исторически логичное, пребывающее по ту сторону мифа, умертвляющего познавательный процесс. [2] Приблизиться к идеалу Леопольда фон Ранке историки смогут, лишь отказавшись от «правосудного» подхода к прошлому, от назидательной героизации одних персонажей и демонизации других.
Это не исключает тонкой игры компромиссов между утверждением, что доподлинно установленные исторические факты застыли в веках в неизменном виде, и мнением о том, что эти факты все же сделаны не из «железа», а из более ковкой материи, которой можно сознательно придавать разные формы.
В том числе задаваясь вопросом: была ли возможность вообще избежать Кавказскую войну?
Речь идет отнюдь не о желании поиграть в модную сейчас альтернативную историю, состязаясь с голливудской фантазией в сочинении невообразимых вариантов развития прошлого. Речь идет о ситуациях, рождающих у исследователей искушение увидеть в абсолютно реальных фактах вековой давности реальные исторические развилки, открывавшие перед Россией разные пути в будущее.
Пустое занятие? Возможно. Вот только что мы теряем, размышляя о незамеченных или отвергнутых альтернативах ? Ровным счетом ничего. Это ведь просто игра ума?
В том-то и дело, что не совсем «просто». Забавляясь таким образом, человечество создало огромное хранилище «ошибок скорбных», и когда власти предержащие, не слишком склонные туда заглядывать, все же время от времени принуждают себя к этому необходимому любопытству, удается иногда избежать самого худшего.
Своей невыносимо трагической историей Россия заслужила право сказать себе: самое худшее позади. Это предположение сколь оптимистично, столь и сомнительно. Развитие страны по нынешней политической и экономической траектории стремительно приближает нас к развилке (если мы уже не достигли ее), где не лишне будет крепко задуматься над опытом истории, которая не всегда «ничему не учит», но всегда карает за невыученные уроки.
Позади у России много всякого. Неизбежного, случайного, предотвратимого. Не путать одно с другим – проблема не только историков: в их заблуждениях, в конце концов, нет ничего катастрофичного. Гораздо страшнее, когда начинают плутать в потемках высокопоставленные политики без внутренней, обостренной исторической интуиции, без чувства надвигающейся опасности, потеряв инстинкт народосохранения.
Будем откровенны. Кавказская война XIX века даже отдаленно не сопоставима с теми событиями русской тысячелетней истории, в которых на кону стояла судьба Российского государства. Это была совершенно нетипичная война, без официального объявительного акта, без «линии фронта», без генеральных сражений, без неизменного в своем враждебном настроении противника, без итогового мирного договора. Война была необычной настолько, что порой трудно определить, чего в ней больше – собственно войны или «сопутствующих» обстоятельств, постепенно выходящих на передний план общей исторической панорамы. Политика, дипломатия, экономика, межкультурная и межличностная коммуникация становились столь же, если не более важной частью событийного процесса.
Рано или поздно война на Кавказе непременно закончилась бы именно так, как закончилась. Это тот случай, когда альтернатива победе России отсутствовала. Атипичность самой войны наполняет многогранным смыслом и слово «победа». Оно, в данном контексте, подразумевает отнюдь не только сугубо военный итог и отнюдь не только Российскую империю в качестве «победителя». В исторической перспективе и ретроспективе постановка вопроса о выигравших и проигравших бесплодна. Обе стороны понесли большие, но, с точки зрения макроисторических результатов, не напрасные жертвы. Империя платила неизбежную (и всегда дорогую) цену за достраивание своего южного яруса, за обеспечение его геополитической безопасности, за внутренний мир и относительную межэтническую стабильность, за возможность иметь условия для государственно-административного, торгово-хозяйственного, культурного, гражданственного развития Северного Кавказа. Горцы же, и прежде всего их политическая элита, потерпев военное поражение от Империи, выиграли (не сразу осознанную) привилегию быть ее продолжением, получив беспрецедентные шансы на цивилизационный прорыв из теснин патриархально-родового быта и сознания в совсем иную эпоху, исполненную ранее немыслимыми перспективами раскрытия творческого потенциала личности, общества, этноса.
* * *
Однако означает ли все это, что Кавказская война была обречена состояться при любых обстоятельствах и принять хорошо известное нам сценарное направление? Существовали ли способы предотвратить ее или хотя бы сократить ее сроки до тех, к примеру, трех с небольшим лет (февраль 1785 – ноябрь 1787 гг.), в течение которых происходило то, что исторические источники позволяют условно назвать движением Шейх-Мансура (Ушурмы)? [3]
С него мы, пожалуй, и начнем.
Северный Кавказ всегда находился в состоянии волнений и междоусобиц. С XVI века этот беспокойный край становится объектом внешней политики России и ее геополитического соперничества с Турцией, Ираном и Крымским ханством. В течение двух веков русское военно-политическое присутствие там ограничивалось Терским городком, небольшой крепостью на берегу Терека, неподалеку от его устья.
Пока Россия была в военном отношении слабее турок и персов, она эффективно использовала политическое оружие, тонко играя на настроениях местных элит, в свою очередь искавших «третью силу», чтобы перспективой заключения союза с ней шантажировать иностранные державы, когда они слишком усердствовали в своем экспансионизме.
На руку России была и острая потребность горских владетелей в авторитетном и справедливом посреднике в своих междоусобицах. Конкуренты Москвы придерживались на Северном Кавказе классической стратегии «разделяй и властвуй», лишь усугублявшей хаос и смуту. Жертвы этой стратегии, осознав ее ущербность, стремились хотя бы к какому-то подобию порядка. В поисках его, горские правители обращались за третейскими услугами к воеводам (а потом комендантам) Терского городка, которые, вопреки принципиально ошибочному мнению большинства историков, сразу поняли очевидные преимущества принципа «мири, объединяй и управляй». Так русские постепенно обретали авторитет и влияние, в то время как их конкуренты все это теряли. Правда, не обходилось без грубых промахов, вызванных преждевременным искушением применить оружие для завоевания ключевых геополитических позиций.
Согласно условиям Кючук-Кайнарджийского договора, зафиксировавшего поражение Порты в русско-турецкой 1768-1774 гг., к Российской империи была присоединена Кабарда. Другие территории Северного Кавказа в договоре не указывались, но подразумевалось, что весь Центральный Кавказ, включая Чечню и Ингушетию, переходил под влияние России.
В 1785 г. в чеченском ауле Алды появился странный молодой человек по имени Ушурма (позже его стали называть Шейх-Мансуром), который призывал прекратить порочную жизнь, междоусобицы, грабежи, убийства.[4] И следовать заповедям Корана, то есть его, Ушурмы, проповедям, собиравшим все большее число людей. Постепенно стал доминировать мотив о борьбе против неверных единоплеменников. Но о главных гяурах, русских, живших по соседству, на левом берегу Терека до поры до времени не было ни слова.
Чеченцы с любопытством наблюдали за этим блистательным иллюзионистом, применявшим разного рода приемы воздействия на толпу, выглядевшие как чудеса. Но идти за ним не спешили. Ушурма требовал от горцев отказаться от сложившегося веками образа жизни, а это им не нравилось. Он быстро сообразил, что нужно соединить религиозную идею с хорошо знакомыми чеченцам вещами.
Ушурма объявляет священную войну (газават) русским безбожникам, чтобы сделать их правоверными мусульманами.[5] В этой безумной идее была какая-то гениальная дерзость, достойная особого внимания, если не сказать восхищения, со стороны историка любой политической и идеологической ориентации. Ушурма поднимает в боевой поход во имя торжества ислама языческую в своей сути социальную массу, обращая ее сугубо физическую, без всяких идеальных примесей энергию вовне, указывая на северного врага, которого надо либо обратить в новую веру, либо уничтожить. Выполняя эту великую миссию и постепенно проникаясь ее высоким героическим пафосом, чеченцы, как полагал Ушурма, обретут путь к истине, заодно вознаградив себя материально. Такой изощренно-парадоксальный замысел мог зародиться только в сознании незаурядного человека, возможно черпавшего свое творческое, «миссионерское» вдохновение из книг деяний Пророка.
Изначальное непонимание горцами идейной подоплеки этого плана с лихвой замещалось предвкушением совершенно осязаемых результатов этого похода в виде богатой добычи. Ушурме пришлось пойти на компромисс с самим собой: он сделал средством мобилизации масс грубый материальный интерес – именно то, против чего были направлены его проповеди. Разбой, оставаясь способом обогащения одних, объективно становился инструментом обращения в ислам других.
Драма Ушурмы заключалась в том, что, вторгаясь в русский мир с прозелитическими целями, он (как и позже Шамиль) не представлял себе подлинных размеров, военной мощи и духовно-православной прочности этого мира. В его сознании Россия отождествлялась с небольшими русскими крепостями и казачьими станицами, разбросанными вдоль северного берега Терека. Не исключено, что горскому вождю могли быть известны народные предания о двух катастрофических поражениях, понесенных русскими войсками в конце XVI – начале XVII веков в шамхальстве Тарковском.[6] Если так, то почему бы этому живописному героическому эпосу не стать источником воинственного вдохновения для чеченского предводителя ?
В войне против России Ушурме досталась одна-единственная победа, в июле 1785 г., над незадачливым полковником Пьери. Пылкое горское воображение раздуло ее до масштабов полного и окончательного торжества над Россией. Победителя теперь стали называть Шейх-Мансуром и имамом, именами символизировавшими победоносность, святость, право властвовать над людьми.
Шейх-Мансур, еще не зная, какая сила ему противостоит, попытался развить военный успех, но терпел неизменные поражения, гарантировавшие крах его планов. Утверждение ислама в обществе, еще не готовом к идеологической революции, не было абсолютным императивом для Шейх-Мансура. Стержневой идеей в его жизненном сценарии являлась власть, обретенная любым путем, лишь бы не слишком затратным. Во всяком случае, заведомо класть жизнь на это он, будучи скорее прагматиком, чем фанатиком, не горел желанием. Имаму, по большому счету, стало неважно, кто или что поможет ему объединить неукротимых чеченцев под его беспрекословной властью.
С большим или меньшим изыском он использовал разные средства. Проповедь идеалов, мало понятных для горцев. Чудотворчество, завораживавшее чеченцев как публику на гипнотическом сеансе, но не более. «Идейный» газават против русских, во имя которого чеченцы, сами не искушенные в мусульманском благочестии, не собирались жертвовать собой. Гораздо ближе был им «материальный», а попросту «разбойный», газават против кого угодно, но и тут возникали, так сказать, проблемы рентабельности: добыча должна многократно окупать человеческие потери, а с русскими это получалось редко. Это укрепляло миролюбивые позиции той части чеченского общества, которая беспокоилась, по словам одного хорошо осведомленного автора, о «сбережении своих семейств и своего достояния». Каковы бы ни были численность и влияние этих людей (кстати говоря, еще один темный вопрос), они составляли естественную оппозицию сторонникам газавата.
Шейх-Мансур пробовал таинственно уединяться в горной глуши, чтобы вновь разжечь к себе интерес, но жаждущих выяснять, чем занимается «пророк» вдали от людей, было немного.
Ни один из способов сплочения чеченцев под властью имама, а значит восхождения на более высокий уровень социально-политической организации, не сработал. Для человека, обладающего незаурядными предводительскими талантами, был повод для обиды на судьбу. Тем более обидно было, что рядом, в Дагестане местные ханы, признававшие его духовное, личностное превосходство и восхищаясь им, втайне приглашали его просветить их в вопросах истинного благочестия, открыть им высокие истины.
Как можно предположить, «историческую» несправедливость Шейх-Мансур видел в том, что заискивающие перед ним ходатаи имели то, чего не было у него – власти. Они, благоденствуя под моральной и финансовой опекой России, рутинно управляли своими квазигосударствами, поскольку имели для этого необходимые рычаги. А самое главное им удалось найти общий язык с великой империей.
Осознав, что в войне с русскими он ничего не приобретет, а потеряет, как стало очевидно в конце 1785 года, все, прежде всего поддержку соплеменников, Шейх-Мансур решил изменить политическую стратегию. Мысль его работала в логически безошибочном направлении. Чеченцы представляли собой самое анархическое общество на Северном Кавказе, гарантировавшее русским крайне беспокойное и накладное соседство. Попытки России ограничить их рамками упорядоченной социальной системы с помощью кабардинских князей и кумыкских ханов ни к чему не привели. Чеченцы прогнали «варягов» и продолжали досаждать разорительными набегами всем, кто попадался под руку.
Шейх-Мансур был убежден: виной всему, помимо народных нравов, адаты, уже давно изжившие себя и не способные выполнять положенные им регулятивные общественные функции. Горцам нужно не снисходительное обычное право, полное разночтений, а строгий шариат, у которого гораздо больше шансов привести чеченцев в повиновении.
Все проповеднические приемы имам исчерпал. Они приносили лишь кратковременный эффект, да и то только тогда, когда не мешали совершать набеги. Но цели Шейх-Мансура простирались далеко за пределы этого хищнического занятия. Против воли взятая на себя роль предводителя разбойников ему претила. И он быстро от нее отказался, не видя достойной для своей личности перспективы.
Не подчиняться образу жизни чеченцев, а подчинить их себе и нормам шариата – вот к чему стремился имам. Для этого требовалась не только сила духа, но и просто сила. Где ее взять? На кого опереться? Каким образом проторить путь к власти? Быть может, последовать примеру того же шамхала тарковского и ему подобных? Такие вопросы встали перед Шейх-Мансуром летом 1786 года после того, как он, проиграв все сражения, удалился в горы, где от полного одиночества его спасали несколько преданных слуг.
Догадаться, в чем отчаянно нуждаются русские, не составляло труда. Русским нужен был минимальный порядок в Чечне, и именно его собирался предложить им имам вместе со своим авторитетом, влиянием, организаторскими талантами. В обмен на такую же поддержку России, на какую она была так щедра в отношении дагестанских правителей, а теперь еще и грузинского царя Ираклия II (после заключения Георгиевского трактата 1783 года).
Если свести к краткой формуле гипотетический диалог между Шейх-Мансуром и Екатериной II, то звучала бы она просто: «Вы мне гарантируете полную и хорошо оплачиваемую свободу действий, а я вам мир и покой среди чеченцев». Такую идею предстояло довести до русских генералов официальному послу имама Этте.
Г.А. Потемкин, питавший к горцам определенную слабость и всегда проявлявший к ним честность, велел сообщить Шейх-Мансуру, что принимает идею переговоров без конкретного уточнения их предмета. Косвенно это означало по крайней мере одно: предложение имама не отвергнуто.
Пока думали, как технически организовать встречу между двумя сторонами, кизлярский комендант Вишняков решил выступить с инициативой, которую иначе как глупостью назвать трудно, даже если бы она удалась. Было дано распоряжение о поимке имама и доставке его к князю Потемкину в качестве пленника. Стремление выслужиться перед начальством оказалось выше стремление служить интересам России. Шейх-Мансур, почувствовав неладное, вообще скрылся из виду. Переговоры были сорваны, не начавшись.
Мы никогда не узнаем, что вышло бы из этого эксперимента. Даже при удовлетворении Россией условий имама, не факт, что чеченцев удалось бы умиротворить. В принципе они могли бы просто уничтожить своего вождя за уподобление дагестанским ханам, находившимся на содержании у Петербурга. Не был исключен и другой, оптимистичный вариант. Все зависело от многих обстоятельств (как знать, сколько еще Вишняковых готовы были продемонстрировать служебное рвение не лучшим образом), и прежде всего от масштабов политических талантов Шейх-Мансура не в качестве предводителя набегов, а в качестве правителя и укротителя чеченцев. Продемонстрировать их в полной мере судьба ему так и не позволила.
Стань Шейх-Мансур для своих соплеменников тем же, скажем, что являлись другие дагестанские владетели для своих, создавалась бы, по крайней мере, теоретическая перспектива включить замиренную Чечню в состав учрежденного в 1786 году первого Кавказского наместничества, задуманного как средство объединения горских народов под скипетром Екатерины II во имя их цивилизационного развития и воспитания чувства единства с Россией.
Пойди Екатерина II на такой неординарный шаг (к чему ее мог бы склонить князь Потемкин), поддержи она безоговорочно «имама-губернатора», направив его незаурядность не только на проповедь шариата, но и на социально-политическую, экономическую, культурно-урбанистическую интеграцию чеченцев в имперскую систему России, не зародился бы тогда прообраз совсем другой Чечни, обустроенной, умиротворенной, управляемой? Нашлось бы, в таком случае, в истории России место для Кавказской войны, напрасно терзающей память нескольких поколений людей, мало что знающих о ней?
* * *
После Шейх-Мансура, покинувшего чеченцев в ноябре 1787 года, их жизнь вернулась на круги своя. О газавате никто и не думал, но о полном спокойствии на Тереке и Сунже говорить тоже не приходилось. Иными словами, с точки зрения социально-энергетического состояния Чечни, ситуация вернулась, в определенном смысле, в «нормальное» русло. Восстановился прежний баланс между всплесками набеговой активности и периодами затишья. Держался он до начала 20-х годов XIX века.
То есть 35 лет, как минимум. Если исходить, как это делают многие историки, из того, что причины вызревания Кавказской войны XIX века можно легко выстроить как преемственно-закономерный процесс и размеренно поступательное движение непременно по восходящей линии, то три с половиной десятка лет – вполне достаточный срок для появления идейного наследника Шейх-Мансура, типологически близкой социальной фигуры, способной действовать против «гяуров» гораздо активнее и эффективнее (в противном случае, в чем тогда поступательность «исторического» процесса?). Но наследников идей Шейх-Мансура история этого периода так и не представила, хотя никуда не делись внешние провоцирующие факторы, ни русские войска, ни русские укрепления, ни зажиточные русско-казачьи станицы – все, что растравляло аппетиты чеченских бяччи[7] и одновременно мешало им. Добавим к этому войны России с Персией (1804-1813 гг.) и Турцией (1806-1812 гг.), ввергавшие горцев в неотразимое искушение, подогреваемое призывами султана и шаха к борьбе против неверных. … А также назначение Кавказским наместником А.П. Ермолова (1816-1827 гг.), жесткая политика которого могла служить для чеченцев стимулом и оправданием для ответной военной мобилизации.
Говорят, исторический процесс не терпит пустоты. Красивый образ ! Но, по сути, он означает, что этот самый процесс не допускает дискретности (прерывистости, неравномерности), которая, позволим себе напомнить, является «всеобщим свойством материи». Конечно, целая эпоха между 1787 годом и началом 1820-х годов не могла быть вакуумом в истории Чечни (и Дагестана). Происходили определенные события и во внутренней жизни, и в русско-чеченских отношениях. Однако если иметь в виду динамику накопления объективных и субъективных предпосылок Кавказской войны, то придется констатировать наступление долгой и совершенно отчетливой паузы. Те, кто вольно или невольно признает наличие такой досадной заминки в «закономерном ходе истории», объясняют ее по-разному или не объясняют вообще.
Большинство историков, не желающих видеть лакун в генезисе Кавказской войны XIX века, акцентируют, применительно к началу 1820-х годов, почти одновременное явление на историческую сцену Чечни двух персонажей – Бейбулата Таймазова (в одних источниках, и Таймиева – в других), вождя местных отрядов, занимавшихся банальными набегами, и наместника Кавказа А.П. Ермолова, поставившего задачу искоренить грабительский промысел военными, политическими и экономическими средствами. Бейбулат, как якобы типологическое продолжение Шейх-Мансура, был уполномочен неумолимыми законами истории дать вооруженный ответ на новую, более суровую политику в отношении горцев, проводимую А.П. Ермоловым.
Изучив местную обстановку, Алексей Петрович – человек с совершенно четкими представлениями о способах наведения имперского порядка на периферии государства – категорически отказался терпеть на Северо-Восточном Кавказе чеченскую вольницу, ту условную «нормальность», о которой мы упомянули выше. У наместника, занятого многими, в том числе сложнейшими международными делами, не было времени вникать в природу горских набегов. Ему хватало собственного убеждения о врожденной социально-генетической сути этого промыслового занятия, что, в его глазах, естественно, не могло служить извинительным обстоятельством. А.П. Ермолова волновала не проблема происхождения, а проблема искоренения «хищничества».
Рассматривая эту задачу, прежде всего, как военную, наместник окружил Чечню кордоном, перекрыв выходы с гор на равнину. Из-за малочисленности русских войск в этой оборонительной системе были прорехи, через которые чеченские отряды устремлялись в притеречные районы на поиск добычи. А.П. Ермолов реагировал на эти вылазки быстро и жестоко. «Репрессалии» носили прицельный и порой избыточный характер. Далеко не всегда доставалось не тем, кто их заслуживал. Чеченские старейшины, искренне обещавшие наместнику гарантии беспрепятственного прохода русской колонны мимо того или иного аула, оказывались беспомощными перед удалой непослушной молодежью, стрелявшей в спины ермоловских солдат. В таких случаях генерал разворачивал войска, устанавливал батареи и оставлял от нарушившего клятву поселения лишь печальные воспоминания.
Вместе с тем, у Ермолова, помимо «кнута», имелись и «пряники» для благонамеренной части чеченских обществ. В отношении миролюбиво настроенной родовой знати наместник, подобно своим предшественникам, продолжал политику щедрых «ласкательств». В Чечне, в отличие от Дагестана и Кабарды, эта политика имела гораздо более короткую историю и, по-видимому, была связана с осмыслением уроков движения Шейх-Мансура. Как бы исправляя допущенные тогда политические ошибки (если это были ошибки), русское командование внимательнее присматривается к тем чеченцам, которые потенциально могли бы стать идейными преемниками той незаурядной личности. Иначе говоря, в повестку дня была поставлена задача – превратить врага в союзника, и не дать сегодняшнему союзнику завтра стать врагом.
Так в поле зрения А.П. Ермолова попал влиятельный чеченский «бяччи» Бейбулат Таймазов, сникавший себе славу «удалью, бесстрашием и джигитством», … и «хуторами, нажитыми долговременным разбойным промыслом около русских дорог и станиц». Что у него на уме, кроме набегов и добычи, не знал никто. Не исключая в Бейбулате стремления подняться на более высокую ступень личностной самореализации, А.П. Ермолов пошел на беспрецедентный политический шаг. Он произвел «главнейшего разбойника чеченского (слова наместника – В.Д.)» в …поручики русской армии и назначил начальником военной линии, защищавшей равнинные поселения от нападений горцев. Таким образом, если пользоваться эпитетами Алексея Петровича, «главнейшему разбойнику» вменялось в должностную обязанность укрощать «разбойников» меньшего калибра. Добровольное согласие на предложение наместника русского царя говорило о том, что Бейбулату было мало его прежнего статуса. Он хотел чего-то большего. Чего? На какие личные перспективы готов он был обменять то, что имел ? Или получить их, ничем не жертвуя ? Вопрос не простой.
Благодаря своей безусловно престижной должности Бейбулат оказался на пути той стихии, которой он раньше управлял, но управлял ровно в той мере, в какой повиновался ее законам. Теперь ему предстояло найти в себе силы и мужество идти наперекор этим законам. Бейбулат попал в трудную ситуацию. В Чечне были десятки авторитетных военных предводителей, в глазах которых он превратился из «первого бяччи» в человека, продавшегося врагу. Такая репутация грозила резко сократить и без того ограниченное число его приверженцев. Бейбулат понимал, что жизнь поставила его перед выбором между двумя соблазнами: военно-административная карьера на русской службе и возвращение в набеговый промысел. Третьего, вроде бы, не дано, … если сводить весь логический анализ только к этой дилемме. Но ведь историку ничто не мешает и самому посмотреть на вещи шире, и признать за Бейбулатом способность на более объемное восприятие реальности. И тогда почему бы не допустить, что у нашего героя про запас имелся еще один вариант, тем более, если он был наслышан о жизненных перипетиях легендарного Шейх-Мансура.
Северный Кавказ никогда не выпадал из поля зрения южных соседей – Ирана и Османской империи. Их эмиссары появлялись там регулярно, преследуя совершенно понятные цели. Они привозили с собой крупные суммы денег и броские символы политического внимания со стороны Тегерана или Стамбула (титулы, эполеты, грамоты с шахскими и султанскими печатями, именные подарки и т.д.), предназначенные для подкупа местных влиятельных персон на предмет заключения с ними военного союза. В число особенно важных объектов обхаживания, как можно предполагать с большой долей уверенности, входил и Бейбулат. Это раздвигало для него границы выбора, учитывая, что с самого начала Восточного кризиса 1820-х годов идея русско-турецкой войны витала в воздухе.
* * *
Ни одна историческая личность не живет мыслью о том, что ее миссия состоит в дисциплинированном соблюдении непреклонной воли истории. Она просто живет. Живет своей жизнью. Любит и ненавидит, радуется и страдает, чего-то жаждет, а чего-то избегает. И подчиняется, прежде всего, своей внутренней, несовершенной, иногда безудержно импульсивной сути, потом уже – внешним факторам. А насколько они обуславливали, делали «неизбежно закономерным» поведение субъекта, выясняется уже потом, задним числом. Зачастую «на глазок».
Россия, в лице А.П. Ермолова, вторглась в привычный жизненный распорядок Бейбулата глубоко и противоречиво. Наместник создал реальную угрозу кризиса материальной и моральной доходности набегового производства. Зато взамен предложил другое поприще, открывавшее для личности не слишком примитивного склада новые, гораздо более заманчивые виды на будущее. Бейбулату предстояло решить, чего он хочет больше – остаться в разбойничьем седле или узнать меру и цену своих дарований на службе великой державе. За любое решение нужно было платить. Но какой именно выбор обеспечит очевидный перевес выгод над издержками ?
А.П. Ермолов, как холодный прагматик, стремился склонить чашу весов в пользу России, приневоливая себя к таким ненавистным ему жестам, как «одаривание», имевшее не только политико-ритуальное, но и внушительное стоимостное содержание. Это, естественно, льстило Бейбулату и служило, как ни странно, укреплению его общественного престижа. Дело в том, что чеченцы (и горцы вообще) ценили и уважали силу. Ту самую силу, которую ермоловские войска время от времени демонстрировали с впечатляющей убедительностью. Россия представала не только, а зачастую не столько в образе «идеального врага», сколько в полуэпическом образе исполина, извергающего из своего чрева несметные полчища воинов. Бейбулату это было на руку. Ведь большинство народа рассуждало просто: если Россия обхаживает «нашего удальца», значит она его почитает, а, возможно, и побаивается. Мало того, подобная логика позволяла идти дальше и домысливать уже заведомо фантастические версии, учитывая, что в горском сознании щедрые подарки нередко ассоциировались с данью.
Со стороны чрезвычайно амбициозного Бейбулата предпочтение в пользу военно-административной карьеры было бы вполне логично, ибо оно сулило нечто более соблазнительное, чем материальные блага, – власть, которой не знал ни один чеченский «бяччи». Единоличную власть над всей Чечней, испокон веков безвластной, разобщенной, истерзанной междоусобицами. Это уже не примитивный военно-демократический вождизм, а политическая диктатура. Для обретения ее требовались совсем другие, по качеству и количеству, ресурсы, нежели те, которыми Бейбулат располагал реально или мог собрать потенциально. Укрощенная Чечня нужна была ему не для того, чтобы преподнести ее России в знак благодарности. А для того, чтобы стать в ней непререкаемым хозяином.
Судя по всему, именно для обдумывания столь дерзкого проекта Бейбулат взял длительную паузу. Во всяком случае, приблизительно с 1818 до начала 1822 года никто из русского командования толком не знал, где обретается и чем занимается «поручик Таймазов». Поговаривали, будто он принялся за старое. Вполне возможно, поскольку набеги являлись главным способом сохранить влияние на горцев. Это, однако, совершенно не исключает, что в паузах между разбоями Бейбулат находил время для раздумий над беспроигрышным выбором. Он, скорее всего, догадывался о принципиальной невозможности соединить в себе две совершенно несовместимые ипостаси: российского «наместника» в Чечне и «главного чеченского бяччи». Проблема выбора осложнялась крайне важными вопросами, остававшимися непроясненными. Какой объем административно-политической власти над чеченцами готова предоставить Россия всего-навсего «поручику Таймазову» ? И какой минимум властных полномочий устроил бы самого Бейбулата, хорошо осведомленного о том, что некоторые представители дагестанской и кабардинской правящей знати носят генеральские звания ?
Чем дольше затягивался тайм-аут, взятый Бейбулатом, тем больше подозрений и недоверия вызывало это у русского командования. Разорительные чеченские вылазки на равнину лишь усугубляли их. Бейбулат невольно загонял себя в ситуацию цейтнота. Нужно было на что-то решаться. Однако он медлил. Сложность дилеммы можно считать причиной и, в какой-то мере, оправданием такого поведения.
* * *
В конце концов, в ход неспешных размышлений Бейбулата вмешался человек, которому надоело ждать и который расценил исчезновение «поручика» как предательство. Речь о генерале Н.В. Грекове. Правая рука А.П. Ермолова, отважный профессионал горной войны, познавший толк и в другой сложной материи – психологии горцев, – он наводил на чеченцев ужас на поле боя и совершенно озадачивал их своим неожиданным великодушием в личном общении. Николай Васильевич не церемонился с теми, кто не понимал другого языка, кроме силы, но при виде поверженного врага, тотчас останавливал кровопролитие, никогда не продолжая его в назидательный прок.
И все же случалось, что Греков, как выразился историк В.А. Потто, «слишком натягивал струны». В отношении Бейбулата, к которому генерал не испытывал никакого доверия, это было особенно заметно. Хотя Грекова и выше упоминавшегося Вишнякова нельзя сравнивать по умению анализировать ситуации, приходится констатировать, что Николай Васильевич намеревался поступить со своим противником так же, как и комендант Кизляра в свое время с Шейх-Мансуром. Взаимная неприязнь между Бейбулатом и Грековым усиливалась.
Бейбулат понимал: генерал не даст ему покоя нигде, и рано или поздно сведет с ним счеты как с предателем. Это помогло ему наконец-то определиться в своих метаниях. «Поручик Таймазов» решился (вероятно, в 1822 году) выйти из своего горного убежища и явиться прямо к А.П. Ермолову со смиренно склоненной головой и изъявлением раскаяния за «долгое отсутствие».
Наместник простил отступника, пообещав не поминать старое. А.П. Ермолов, едва ли впечатлившийся трогательной сценой «возвращения блудного сына», исходил из сугубо рациональных соображений. Во-первых, не было убедительных доказательств враждебной деятельности Бейбулата против России (в спорадических чеченских «мятежах» 1820 – начала 1822 годов его не видно, а на мелкие наезднические «шалости», без которых жизнь для горца не в радость, можно иногда и глаза закрыть). Во-вторых, А.П. Ермолов полагал, что такого человека лучше иметь на своей стороне в качестве похвального примера благоразумия, чем делать из него героя-великомученика. Третье по счету обстоятельство являлось, возможно, самым важным по значению. В подтверждение своей искренности Бейбулат вызвался подчинить непокорных чеченцев русской власти. Правда, в тот момент он не осмелился назначить цену за эту услугу.
Поверил ли А.П. Ермолов «поручику Таймазову» и насколько, не известно. Скорее всего, в интересах дела он посчитал нецелесообразным отвергать это заманчивое предложение. Отправляя Бейбулата в крепость Грозную на переговоры с Грековым, наместник наказывал своему подчиненному обойтись с визитером «ласково». Требовал он от Николая Васильевича почти невозможного…
Впрочем, соблюдая служебную дисциплину, Греков объявил Бейбулату, что готов обсудить его инициативу. Тут, уже не стесняясь, Бейбулат предъявил условия, на которых он соглашался помочь России: полная свобода действий на территории всей Чечни, включая право взимания денежных штрафов, а также выплата ему офицерского жалования, накопившегося за время его «отсутствия» (около четырех лет). Греков ответил, что все это надо прежде заслужить реальными делами, и для начала выдать аманатов в знак покорности чеченских обществ.
Психологическая предыстория встречи этих двух непростых персонажей не обещала успеха. Они, будучи живыми людьми, а не статическими образами, оказались не в состоянии совладать со своими эмоциями. После того как генерал не протянул собеседнику руки, прекрасно осознавая последствия такого нестерпимого для горского самолюбия жеста, переговоры практически потеряли смысл. Вскипевшая гордость Бейбулата вытравила из его сознания все рациональные расчеты и соблазны. Им овладело единственное побуждение – поквитаться с обидчиком. Расстались они лютыми врагами.
В ближайшей перспективе эта сцена, в которой страсти одолели разум, сыграла ключевую роль. Бейбулат вновь уходит в горы и начинает открыто готовить большой бунт против России. Жгучее чувство мести, помимо всего прочего, разбудило в нем, как выражался В.А. Потто, «артиста войны, любившего ее как искусство, наслаждавшегося ею, находившего в ней душевное удовлетворение». Возбуждение и восторг от перспективы окунуться в ощущение «спинного холода», которым человеческий организм безотчетно отзывается на ледяное дыхание смерти, затмили все остальное, рассудочное.
Если А.П. Ермолов, усаживая за стол переговоров двух ненавидящих друг друга людей, надеялся на позитивный результат, то он ошибался. Но ошибался ли наместник, предполагая возможность умиротворить чеченцев с помощью их соплеменника в ранге полномочного представителя российско-имперской власти? Ответ на этот вопрос гораздо менее очевиден. Проще всего сказать, что такой вариант не был ни исключен, ни гарантирован. Гипотезы можно строить и в отношении других сценариев. А можно этого вовсе не делать, смирившись с мыслью об отсутствии реальных исторических развилок в «неотвратимой» этиологии Кавказской войны.
В 1825 году Бейбулату удалось поднять определенную часть чеченцев на борьбу против русских войск. С помощью разного рода ухищрений, широко применявшихся еще Шейх-Мансуром, он пытался возродить идеи газавата и примерить на себя священный сан имама. Явленные народу «чудеса» увлекли немногих и ненадолго. Смысл в массовом выступлении против русских под флагом мюридизма видели лишь единицы. Остальные считали, что для походов за добычей никаких флагов не нужно. Большинство населения оставило призывы Бейбулата без внимания, а некоторые чеченские общества открыто поддержали Россию.
Когда по глупости своих подчиненных погибли генералы Н.В. Греков и Д.Т. Лисаневич, А.П. Ермолову показалось, что события принимают слишком серьезный оборот и требуют его личного вмешательства. В конце января 1826 года он берется за дело и без особых проблем подавляет мятеж, опираясь, в том числе, и на чеченских ополченцев. Аульные старшины от имени своих обществ пообещали жить смирно. Через несколько лет и сам Бейбулат попытается вновь заинтересовать Россию своей персоной. От раздумий по этому поводу (если они имели место) русское командование было избавлено «своевременной» гибелью ходатая от рук кровного мстителя.
* * *
Можно ли рассматривать сумбурную деятельность Бейбулата как органичную прелюдию к движению Шамиля, которое собственно и составляет суть и сюжетное ядро Кавказской войны ? Практически все историки дают положительный ответ. С методологической точки зрения, это означает, что Бейбулат и Шамиль вполне сопоставимы и по масштабу личности, и по исторической значимости. Разумеется, сравнивать их можно и должно. Проблема в критериях и результатах такого сравнения.
Итоги военной, политической и идеологической деятельности Бейбулата были бы, вероятно, достойны большего интереса, если ничего не знать о той грандиозной и беспрецедентной для Кавказа цивилизационной революции, которую гениально задумал и блистательно осуществил Шамиль, имевший в своем распоряжении тот же исходный материал, каким пользовался Бейбулат. Шамиль, поднявшийся на недосягаемую для других высоту, и есть плоть и кровь Кавказской войны, которая без него была бы совершенно иной, если была бы вообще.
Впрочем, и в истории феноменального успеха Шамиля далеко не все однозначно. Имам оставил исследователям его творения много вопросов. В том числе на тему: «что было бы, если бы ?». Но об этом как-нибудь в другой раз…
Владимир Дегоев, профессор МГИМО-Университета
[1] Ударение ставлю на всякий случай, специально для одного из моих очень «тактичных» оппонентов, видимо любительствующего психиатра, с менторским великодушием поставившего мне не самый страшный диагноз: «склонность к историческим галлюцинациям».
[2] Понятно, что в данном случае мы не имеем в виду миф как самостоятельный предмет исследования.
[3] Датируя это движение 1785-1791 годами, многие историки впадают в заблуждение, вызванное доверием к хрестоматийным цифрам и нежеланием детально-хронологически прослеживать тогдашние события по документам. Между тем, на основании источников выявляется один из главных мифов – о масштабах военных действий и побед Шейх-Мансура над «армией России». Доподлинно известно, что с начала ноября 1785 года до октября 1787 года Шейх-Мансур дал русским войскам несколько сражений, из которых начисто проиграл все, кроме первого. Потом он надолго исчез из поля зрения современников и историков. Только с июня 1791 года мы видим его участвующим в обороне османской крепости Анапа, а затем плененным русской армией. Но это уже совершенно другая история, история короткой службы в турецком гарнизоне, не имеющая никакого касательства ни к чеченцам, ни к «истокам» Кавказской войны.
[4] Ушурма – едва ли не самая мистическая личность в истории Северного Кавказа. Острые споры о его биографии не утихают по сей день. В ней много загадочных фактов, над прояснением которых бьются серьезные ученые, не позволяющие себе отметать целый ряд свидетельств о его нечеченском происхождении и тесных связях с османской Портой. Учитывая это, мы весьма условно исходим из допущения, что Ушурма родился и вырос в Чечне, и не вдаемся в темные подробности его жизни, хотя они, в случае обнаружения надежных документальных подтверждений других версий, могут иметь принципиальное значение.
[5] Более подробную аргументацию в пользу этого и других утверждений автора статьи читатель найдет в моей книге: «Непостижимая Чечня: Шейх-Мансур и его время (XVIII век.)» (М., 2013).
[6] См., например: Дегоев В.В. Северный Кавказ. С древнейших времен до воцарения Екатерины II. М., 2014. С.317-318, 323-324.
[7] Военных предводителей.

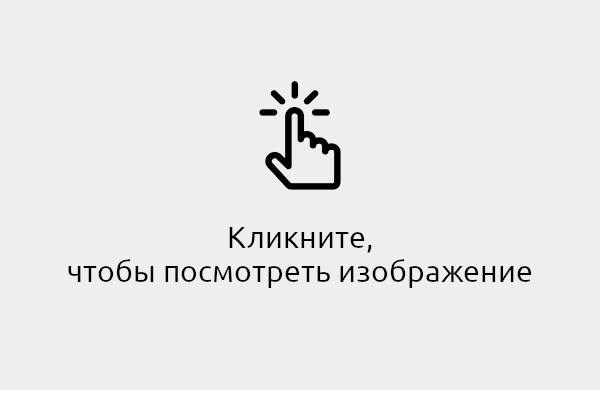
Комментарии читателей (1):