В Сеуле завершилась первая за четыре года трехсторонняя встреча азиатской «большой тройки» - Китая, Японии и Южной Кореи. Токио и Сеул были представлены первыми лицами – премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Юн Сок Ёлем; Китай представлял премьер Госсовета Ли Цян. Пояснений по этому вопросу не было, и тема не обсуждалась, поэтому предположим, что, во-первых, в условиях нынешней международной обстановки сыграли свою роль соображения безопасности, а во-вторых, — сам характер обсуждавшейся повестки. В ней, по информации, распространенной в канун саммита аппаратом южнокорейского президента, фигурировали вопросы, связанные с экономическим и гуманитарным сотрудничеством. Было понятно, что тема безопасности тоже будет затронута. Но поскольку ее составляющие заведомо известны – военно-политическая обстановка в АТР, Корейский полуостров, связи с Москвой Пекина и Пхеньяна, то шансов на сближение по этим позициям не просматривалось. Поэтому выбор главного визитера в Пекине делался исходя из того, что никакого прорыва не произойдет, а заявленный круг вопросов вполне себе находится в компетенции премьера.
Смещение администрацией Джо Байдена акцентов американской «политики альянсов» в АТР наложило свой отпечаток на существующие здесь противоречия, значительно их обострив. Во-первых, это противоречие между экономикой и политикой. Главным экономическим партнером Токио и Сеула являются США, а Пекина – Европа. В то время, как у Китая товарооборот с Вашингтоном не только стоит на месте уже несколько лет, с развязанной Дональдом Трампом торговой войны, но и усугубляется попытками американской стороны использовать тарифно-санкционную «дубинку», у Японии и Южной Кореи он растет. В СМИ в преддверие сеульских переговоров приводилась динамика распределения японских и южнокорейских инвестиций между США и Китаем. Первые падают уже два года кряду в отношении Поднебесной, уступая в абсолютных цифрах в десять раз японским вложениям в США. Вторые в прошлом году на китайском направлении пробили очередное дно за двадцать лет. Иначе говоря, экономика со всей очевидностью следует в фарватере политических тенденций. Экономическая тройка, собравшаяся на переговоры, по сути разделена между двумя противоположными политическими тройками: Япония и Южная Корея придерживаются альянса с США, а Китай – с Россией и КНДР. Поэтому все ограничилось локальными вопросам, вроде просьбы Кисиды к Ли Цяну снять или уменьшить ограничения, введенные Китаем на японскую морепродукцию в связи с незаконным сбросом в Тихий океан недоочищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Лучше динамика с Сеулом; южнокорейские компании, особенно высокотехнологичные и персонально упомянутый Samsung, получили приглашение на китайский, как сказал Ли Цян, «мегарынок». Но это все далеко от стратегического взаимодействия, ибо политика накладывает известные ограничения. И Кисида, и Юн собираются вскоре в США на второй саммит с Байденом, в преддверие которого объявлено, что с Японией Вашингтон готовится подписать аж 70 соглашений о сотрудничестве в сферах «двойного» назначения. Очевидно, что в американской столице будут обсуждаться меры военного взаимодействия, направленные против Китая, и это очевидный тупик для экономики и торговли, не говоря уж о технологиях.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
- 19.06.24 В Сеуле открылся международный форум Китая, Японии и Южной Кореи
- 15.06.24 Премьер Госсовета Китая совершает визит в Новую Зеландию
- 30.05.24 Китай, Япония, Южная Корея: саммит в Сеуле не устранил противоречий, а лишь обозначил стремление их преодолевать
- 29.05.24 КНДР запустила в Южную Корею воздушные шары с «сюрпризами»
Отсюда, во-вторых, противоречием можно считать попытки сателлитов США одновременно и добиться от Китая каких-либо уступок по повестке, диктуемой Вашингтоном, и их невозможность предметно обсуждать возможные компромиссы, ибо все решения опять-таки принимаются в США. Получается, что в политических вопросах Кисида и Юн выступили «адвокатами» Байдена, действующими по его указке, в рамках не своей повестки и интересов, а американских. Не лучший фундамент для переговоров и откровенно слабая позиция.
Весь спектр сложностей демонстрируется совместным заявлением, которое было подписано лидерами по итогам переговоров. Договорились проводить саммиты, расширить гуманитарные обмены, обмениваться информацией о достижениях по борьбе со старением нации. Под открывшуюся сегодня 77-ю сессию Всемерной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) заявили о взаимодействии в предотвращении пандемий. Наиболее содержательный раздел – торгово-экономический; в нем выделяется заявка на ускорение работы по трехстороннему соглашению о свободной торговле; кстати, премьер Ли и президент Юн обсуждали эту тему и в двустороннем формате.
Итоговый документ содержит и раздел о региональном мире и безопасности. Выделены две темы – денуклеаризация и локальный вопрос похищений. Речь идет о японцах, которые, по версии Токио, были похищены службами безопасности КНДР. Тема, откровенно говоря, ни о чем, ибо это двусторонний вопрос Токио и Пхеньяна; северокорейское руководство с Кисидой, который его лично поднимал, разговаривать на эту тему отказалось, и появление по настоянию японской стороны этого пункта в совместном заявлении – по сути детская жалоба Токио Пекину на поведение Пхеньяна. То есть демонстрация Кисидой слабости собственных позиций на фоне усиливающихся проблем внутри страны, где ему нужна хоть какая-то внешнеполитическая «перемога». Что касается ракетно-ядерного щита КНДР, то бросаются в глаза две вещи. Первая: упоминание этого пункта по-видимому впервые не сопровождалось «нытьем» американских сателлитов с апелляцией к специфическим образом понимаемому ими «международному праву». Это уже прогресс, ибо в ситуации с ракетной и ядерной программами КНДР это право на самом деле – дышло. Пхеньян вышел из ДНЯО – Договора о нераспространении ядерного оружия в 2003 году, за три года до первого ядерного испытания. Следовательно, он ничего не нарушил. Договор содержит право выхода из него? Ну и все на этом, какие вопросы? Почему тому же Израилю, который участником ДНЯО не был никогда, можно иметь 150 боеголовок, в том числе около 60-ти – стратегической мощности, а КНДР нельзя владеть теми 30-ю, что у нее имеются, с мощностью, сильно уступающей израильской, находящейся в тактическом секторе? Что? Израиль во враждебном окружении? А у КНДР окружение, особенно с юга и со стороны моря, дружественное что ли? Типичные двойные стандарты, которые проходят при очевидном преимуществе той стороны, что их навязывает. Когда такого преимущества у нее нет – тема умирает. Санкции против КНДР в связи с ядерной программой – продукт «старых» времен, когда коллективный Восток еще не сформировался и по-прежнему верил в договороспособность Запада. Те времена давно прошли. А на нет – и суда нет. Очень хорошо, что все это санкционное лицемерие Востоком, наконец, понято, и из него сделаны соответствующие выводы.
Второе, что связано с ядерным оружием КНДР и так называемой «денуклеаризацией» Корейского полуострова. Гарантии безопасности для ее осуществления Пхеньяну мог, и должен был дать только Вашингтон, который во время переговоров 2018-2019 годов, когда вопрос лежал на переговорном столе, от этого отказался. А теперь «поезд ушел»: КНДР узаконила ядерный статус на конституционном уровне, и обсуждать этот вопрос не будет даже с США. Тем более с Сеулом и Токио, у которых для подобного разговора просто недостает элементарной субъектности. Это оккупированные страны с многотысячными воинскими контингентами США, на территории которых либо постоянно, либо периодически размещается американское ядерное оружие со средствами доставки. Не их вопрос – не по Сеньке шапка! У Китая же от включения его в совместное заявление ничего не убыло. Ибо за этим пунктом ничего и не следует. И не последует.
Еще более несостоятельными выглядят попытки упросить Пекин «надавить» на Москву в вопросе ее сотрудничества с Пхеньяном в военной сфере, «сыграть роль оплота мира», как сформулировал вопрос южнокорейский президент. Понятно, что «капля камень точит», но ровным счетом с этим вопросом в китайскую столицу недавно приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. После чего срочно помчался в Киев, сняв руками Владимира Зеленского с повестки дня швейцарской конференции обсуждение украинской «формулы мира». За этим последовал новый виток тарифной войны, запущенный Вашингтоном, а китайским ответом стали санкции против двенадцати американских компания и предприятий ВПК. На что в этой ситуации рассчитывал Юн, ставя этот вопрос перед Ли Цяном, не вполне понятно.
И потом, как можно одной рукой поддерживать США в их сепаратистском шабаше, который они устраивают на Тайване, с визитами делегаций и объявлением о новых военных поставках, причем, «новейшего» оружия, а другой – просить Пекин по существу собственных озабоченностей, будь то КНДР или Россия? И еще: где линия боевого соприкосновения в украинском конфликте, а где Япония с Южной Кореей? Любой первокурсник, взглянув на карту, скажет, что ни те, ни другие к этому отношения не имеют. А если поднимают тему, то исключительно с чужого голоса.
Таким образом, тройственная встреча в Сеуле, в значительной мере проведенная для подтверждения самого существования подобного формата, никаких решений не приняла. Даже в части свободной торговли соглашение, подготовка которого на ней подтверждена, по сути дублирует уже действующее, более крупное соглашение о ВРЭП – Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, участниками которого являются и Китай, и Япония, и Южная Корея. В современной большой геополитической игре стороны нынешней встречи действуют на разных сторонах глобальных баррикад. С этой точки зрения гораздо большее внимание привлекут будущие тройственные переговоры в Вашингтоне, а также предстоящий визит президента России Владимира Путина в КНДР, который рассматривается через призму недавней его поездки в Китай. Вот и не поехал в Сеул председатель КНР Си Цзиньпин.

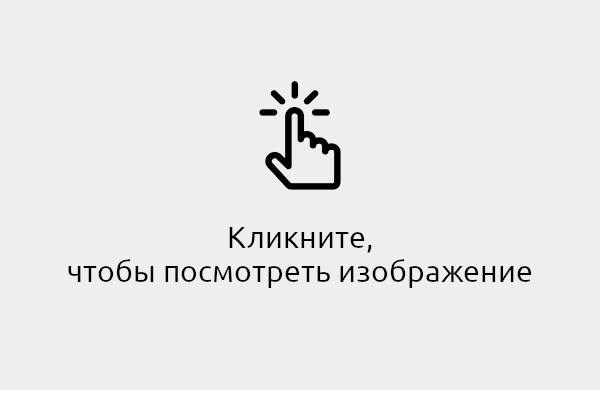
Комментарии читателей (1):