Почти сразу же после окончания польского похода вермахта и Германии, и в Англии начали с особым вниманием присматриваться к Скандинавскому полуострову и возможностям, который он предоставлял. Германская промышленность ежегодно импортировала большие объемы железной руды, половину из этого импорта она получала из Франции и половину из Швеции. Безопасность перевозок по Балтике и Северному морю, как и позиция Стокгольма по вопросу о поставках, во многом зависели от того, на кого будут ориентироваться Дания и Норвегия. В июле и декабре 1939 года Берлин посетил лидер норвежских национал-социалистов Видкун Квислинг. Он выступал за создание в Норвегии союзного Германии правительства. С декабря 1939 года началась разработка плана германского вторжения. Еще в сентябре 1939 года Адмиралтейство планировало осуществить прорыв в Балтику в навигацию 1940 года. План получил название операция «Caterina». Британская эскадра должна была состоять из 3 линейных кораблей, 3 тяжелых и 6 легких крейсеров, 2 крейсеров ПВО, 16, а затем и 24 эсминцев, транспорты и вспомогательные корабли. От реализации этих планов позже отказались. Тем не менее, их наличие резко увеличивало значение Норвегии, Дании и Швеции.
Со своей стороны, и немцы уже с начала 1940 года активизировали подготовку действий в Норвегии, контроль над побережьем которой создавал исключительно благоприятные возможности для борьбы с британским флотом. Большое значение приобретала и перспектива захвата норвежского торгового флота, четвертого в мире (после британского, американского и японского) — 1982 судна общей грузоподъемностью 4,75 млн. тонн. Союзники в марте 1940 года все еще рассматривали план десанта в норвежском Нарвике, формально — для дальнейшего движения в Финляндию через территорию Швеции. Стокгольм, чьи симпатии целиком и полностью были на стороне финнов, не торопился давать согласие на столь явное нарушение своего нейтралитета. На самом деле Лондон и Париж более всего интересовались Нарвиком как пунктом вывоза шведской руды в Германию, особенно в зимнее время, когда Ботнический залив замерзал.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
Железная руда с апреля по ноябрь перевозилась по Лапландской железной дороге, а далее экспортировалась через порт Лулео. С декабря по май порт замерзал, и руда перевозилась через незамерзающий Нарвик. В мирное время приблизительно 1/3 шведской руды поступало в Германию через Нарвик. Советско-финляндская война сразу же усложнила перевозки по Ботническому заливу. Вывоз через Нарвик значительно увеличился. В 1936-1938 гг. в Германии было добыто 2,793 млн. тонн руды, из Швеции ввезено 5,265 млн. тонн, из других стран – 4,085 млн. тонн, всего немецкая экономика использовала 12,142 млн. тонн железной руды. Т.о., чуть менее половина потребляемой Германией руды была шведского происхождения. Обеспечение этих перевозок, разумеется, зависело от исхода противостояния германского и британского флотов.
14 февраля 1940 года в норвежском фиорде на юге страны укрылся немецкий транспорт «Altmark». Это было судно поддержки рейдера «Admiral Graf Spee», и на борту парохода находилось 300 пленных матросов британского торгового флота, снятых с потопленных фашистским крейсером кораблей. В полночь 14 февраля из базы в Росайте к берегам Норвегии с целью прервать перевозку руды из Нарвика в Германию вышла флотилия в составе крейсера «Arethusa» и пятерых эскадренных миноносцев – «Intrepid», «Ivanhoe», «Maori», «Sikh» и «Cossack». 15 февраля они уже были у берегов Норвегии и там получили приказ: «Altmark ваша цель. Действуйте соответственно.» Вскоре немецкий транспорт был обнаружен. «Altmark» ушел под прикрытие нейтральных вод Норвегии. Его капитан Генрих Дау заявил, что не имеет на борту пленных или военного груза, что было неправдой. Его кораблю разрешили пройти без осмотра и выделили в эскорт две старых норвежских миноноски. Это усложняло проблему, которую предстояло решить британским морякам.
Норвегия уже в начале войны пошла на значительные уступки Великобритании – в ноябре 1939 г. был подписан договор о предоставлении фрахта на норвежский торговый флот общей грузоподъемностью до 2,45 млн. тонн. Нейтралитет требовал каких-либо действий и в сторону немцев. Они были сделаны – немецкий транспорт находился под защитой кораблей норвежского флота. «Arethusa» получила телеграмму Адмиралтейства с приказом продолжать действовать. На переговорах с командиром норвежского миноносца «Kjell» на требование предоставить право обыскать «Altmark» на предмет наличия пленных последовал ответ – его уже трижды обыскивали и не обнаружили там никого. В случае вторжения в территориальные воды норвежцы обещали применить силу. Это не остановило британцев, и 16 февраля «Altmark» был взят на абордаж «Cossack», пленные были сразу же обнаружены абордажной партией и освобождены. Норвежские миноноски «Kjell» и «Scarv» не предприняли попыток препятствовать этим действиям.
Командир «Cossack» капитан Филипп Вайан получил личный приказ Черчилля немедленно приступить к действиям. 13 капитанов торговых судов, 286 офицеров и матросов перешли на эсминец. При схватке было убито 7 немецких моряков, пытавшихся оказать сопротивление. Капитан Дау на вопрос командира абордажной команды о проверке представителями норвежского флота заявил, что его корабль «посещали», но не «обыскивали». 19 февраля председатель иностранной комиссии стортинга Карл Йоаким Хамбро публично протестовал против действий британцев: «Для нас трудно понять это наглое нарушение суверенных прав малого государства, которое находится в хороших отношениях с Англией». Начались споры о том, насколько перевозка пленных нарушает букву положения Гаагской конвенции и о том, насколько обоснованы требования Лондона ограничить время пребывания корабля воюющей страны в нейтральных водах.
Эти события в очередной раз убедили британцев, что норвежский нейтралитет полностью работает в пользу немцев. Немцы, по словам адмирала Фридриха Рюге, и до случая с Altmark смотрели на Норвегию, «однако не с агрессивными намерениями, а со все большей озабоченностью.» Гросс-адмирал Редер вспоминал: «Инцидент этот наглядно продемонстрировал, что Норвегия совершенно беспомощна в деле обеспечения своего нейтралитета, даже если бы норвежское правительство и желало этого, хотя далеко не все члены правительства жаждали такого развития событий.» Разумеется, после случая с «Altmark» «озабоченность» немцев увеличилась: «Бездействие норвежских военных кораблей давало законное основание сомневаться в готовности Норвегии защищать свой нейтралитет от британцев столь же решительно, как она защищала его от немцев.»
Мнением норвежских политиков мало кто интересовался, а с нейтралитетом Норвегии никто не намерен был считаться. К концу февраля 1940 года в Шербуре, Гавре и Бресте были сосредоточены транспортные флотилии для перевозки 3-4 французских дивизий, к которым должны были присоединиться 2 британские бригады из Клайда, а также корабли конвоя. 19 февраля Гитлер распорядился ускорить подготовку плана по захвату Дании и Норвегии, получившей название Weserübung («Учения на Везере»). Его разработка была поручена командиру XXI Армейского корпуса ген. от инф. Николаусу фон Фалькенхорсту. 3 марта было принято решения, что эта операция должна предшествовать наступлению на западе.
9 марта адмирал Редер высказал опасение, что союзники захватят Норвегию под предлогом оказания помощи Финляндии. 12 марта Гитлер отдал распоряжение ускорить подготовку захвата Норвегии и Дании. В своей речи 14 марта 1940 г. Чемберлен заявил, что союзники планировали к маю 1940 г. направить в Финляндию около 100 тыс. чел. через Швецию и Норвегию, но собрали около 30 тыс. После окончания советско-финляндской войны формальный повод для вторжения союзников на Скандинавский полуостров отпал, оказывать помощь было уже некому, но подготовка к десанту в Норвегию активизировалась. В результате союзники и немцы начали действовать почти одновременно. 7 апреля в море вышла немецкая эскадра, сопровождавшая транспорты с десантом, предназначенным для Норвегии. Ею командовал адмирал Йохан Гюнтер Лютьенс.
4 апреля британские послы в Осло и Стокгольме предупредили норвежское и шведское правительства о начале минирования территориальных вод этих стран в Северном море, что вызвало энергичные протесты, шведы даже предупредили о возможности военного столкновения. Эскадра минирования вышла в море 5 апреля и приступила к укладке мин утром 8 апреля. Норвегия, Дания и Швеция договорились о взаимной дипломатической поддержке, но пойти далее этого не рискнули. Командиры норвежских пограничных кораблей протестовали против постановки минных полей в территориальных водах – в каких-либо 3 милях от берега, никто не считался с этими протестами. При этом официально о минировании пространства от проливов Скагеррак и Каттегат до Шетландских и Оркнейских островов и побережья Шотландии было объявлено только 12 апреля. Эти минные поля перекрывали выход в Атлантику. Кроме того, необходимо было не допустить возможность зимних перевозок руды из Нарвика в Германию на тот период, когда Ботнический залив замерзает.
9 апреля Германия приступила к оккупации Дании. Власти королевства имели информацию о готовящемся вторжении, но ничего не могли ему противопоставить. Численность датской армии – около 20 тыс. чел. – была недостаточной для обороны, возможность мобилизации исключалась ввиду отсутствия материальных резервов. Утром 9 апреля германский посол Сесил фон Ренте-Финк вручил министру иностранных дел Дании Петеру Мунку меморандум о том, что ввиду опасности британской оккупации вермахт вынужден занять Данию для её защиты. Германская оккупация не будет сопровождаться вмешательством во внутренние дела королевства и его политическую независимость, но в случае сопротивления будет применена сила. В небе над Копенгагеном уже находились германские самолеты. Вслед за этим под председательством короля Христиана X было проведено совещание в котором приняли участие глава правительства, военный министр и министр иностранных дел, командующие армией и флотом, наследный принц Фредерик. Было принято решение капитулировать.
По официальной версии датчан 9 апреля 1940 года, по, «на рассвете, без предупреждения, германская танковая дивизия, занимавшая 30 миль в колоннах, двинулась через датскую границу. Датские войска оказали острое, но безнадежное сопротивление, нанеся существенные потери захватчикам.» Германская сторона о потерях не упоминала, для неё это была скорее оккупация, чем вторжение, для чего понадобилось одна ландверная и одна полицейская дивизия, которые быстро заняли все королевство. Одновременно немцы высадили воздушные десанты на аэродромах. Сопротивления им не оказывалось. В порт Копенгагена 9 апреля вошли ледокол «Stettin» и транспорт «Hansestadt Danzig», на борту которого находился 308-й пехотный полк, который был высажен и в короткое время захватил город. У королевского замка произошла 20-минутная перестрелка с охраной. Исключением была южная Ютландия, где было несколько кратковременных боев.
9 апреля Христиан X при посредничестве имперского уполномоченного в Дании Сесиля фон Ренте-Финка встретился с начальником штаба германских войск в Дании ген.-м. Куртом Химером, на следующий день в разговоре с генералом Его Величество соизволило «как солдат солдату» высказать Химеру свое восхищение проведенной операцией. Дания формально сохранила правительство, парламент, король призвал подданных не оказывать сопротивления, а уже 10 апреля, как всегда, соизволил выехать в столицу на прогулку верхом. Эти поездки превратили монарха в символ пассивного сопротивления, у его дворца собирались тысячи датчан, певших патриотические песни и т.п. Дальше этого долгое время ничего не предпринималось. Датская армия была сокращена сначала до 5,3 тыс., а затем 2,2 тыс. чел., склады вооружения и боеприпасов перешли под контроль немцев, военные, полиция, добровольцы занимались поддержанием порядка и организацией ПВО.
Захват Дании стал первым этапом операции по захвату Норвегии. 9-10 апреля германские войска начали высаживаться в этой стране. Британские корабли подошли к её берегам еще ранее. Немцы шли с целью оккупации страны, англичане – с целью не допустить оккупации, а норвежцы опасались, что приход вторых неизбежно вызовет появление первых. Так и произошло. Все это не мешало Галифаксу заявлять, что Англия никогда не нарушала нейтралитет других стран и не занимала их территорий, даже когда речь шла о железной руде. «Мы стоим на страже международных принципов и международного права», — утверждал Галифакс. Министр очень возмутился, когда Майский шутливо напомнил ему: «Но ведь еще так недавно в Англии была столь популярна формула о «технических нарушениях» международного права (эта формула употреблялась для оправдания минирования норвежских территориальных вод)». Конечно, подобного рода шутки ничего не меняли. Определяющими были только сила и готовность её использовать.
В Москве почти сразу же сделали выводы из случившегося. 11 апреля «Известия» вышли с весьма важной передовицей, которая свидетельствовала о том, какие выводы были сделаны в Кремле из произошедшего: «Говорят, что Германия нарушила своими действиями в Скандинавии принципы международного права, что она превратила в клочок бумаги договор о ненападении с Данией и прочее. Но читать теперь эти дешевые ламентации насчет правомерности или неправомерности германских действий в Скандинавии, после того, как Англия и Франция нарушили суверенитет скандинавских стран в ущерб интересам Германии, — значит, ставить себя в смешное положение. Война имеет свою логику, которая сильнее всякой другой логики. Если одна воюющая сторона предпринимает меры, имеющие своею целью удушить другую воюющую сторону, то эта последняя не может сидеть сложа руки, если она не хочет идти на самоубийство. Напрашивается также вывод насчет «абсолютного нейтралитета» малых стран, расположенных поблизости и на путях действия великих воюющих держав. «Абсолютный нейтралитет», как показывает опыт, есть фантазия, если нет в наличии реальной силы, способной поддержать его. А у малых стран именно этой силы и не хватает. Было бы неразумно думать, что обстановка, когда большие державы ведут между собой смертельную войну, а малые страны, прикрываясь флагом нейтралитета, обогащаются на этой войне, — может продолжаться без конца. Нужно признать, что война уменьшает шансы малых стран, желающих оставаться нейтральными и независимыми, доводя их до минимума (Подч. мной – А.О.).»
Начало войны застало германский военно-морской флот в стадии, которая, казалось бы, исключала возможность успешного противостояния союзникам. Его главные судостроительные программы еще не были завершены. Не был готов ни один из двух заложенных в 1938 году авианосцев, ни один из 4 линкоров, 4 тяжелых крейсера. В строю находились 2 линейных крейсера, 3 карманных линкора, 1 тяжелый, 6 легких крейсеров, 22 эсминца, 20 миноносцев. Только 22 подводных лодок можно было использовать в Атлантике. Всего же из имевшихся 56 субмарин только 46 могли быть приведены в боевую готовность. В тяжелых погодных условиях немецкие корабли столкнулись с английской эскадрой, произошел бой, в котором линкоры «Scharnhorst» и «Gneisenau» получили попадания главного калибра линейного крейсера «Renown». Полное превосходство англичан в силах на море не остановило немцев. Германский флот все же сумел захватить инициативу на первом этапе битвы за эту страну. Немцы понесли потери, британские субмарины потопили несколько транспортов и кораблей, 9 апреля норвежцы потопили в Осло-фьорде тяжелый крейсер «Blucher». Он вынужден был медленно маневрировать в узком пространстве с трудным фарватером, а батарея 280-мм. орудий форта Оскарборг под командованием полковника Биргера Эриксона открыла огонь и добилась попаданий. На корабле начался пожар, взрывы горючего и бомб в ангарах самолетов, горели армейские боеприпасы и бензобаки мотоциклов, приготовленных для десанта на палубе. Крейсер прекратил маневрировать и получил два попадания торпед с береговой батареи, вскоре после чего перевернулся и затонул.
Потопление новейшего тяжелого крейсера остановило на время германский десант и дало возможность королевской семье и правительству эвакуироваться на север страны. Попытки германского посла Курта Брауера убедить короля Хакона VII согласиться с условиями капитуляции по образцу Дании успеха не имели. В тот же день, 9 апреля немцы взяли Нарвик. Их эскадренные миноносцы высадили десант и потопили пытавшийся оказать сопротивление норвежский броненосец береговой обороны «Norge». Небольшой гарнизон сопротивления не оказывал. Часть его сдалась, а часть отступила в сторону границы со Швецией. 13 апреля к Нарвику подошла британская эскадра вице-адмирала Вилльяма Витворта – линкор «Warspite», 4 больших и 4 малых эсминцев. Они попросту расстреляли немецкую эскадру, 8 эсминцев и подводная лодка были или потоплены, или выбросились на мель. Экипажи сошли на берег и усилили гарнизон. Два британских эсминца получили серьезные повреждения, но остались в строю.
14 апреля союзники высадили десант в 60 км. севернее города. Начались бои. Поначалу десант союзников был невелик – около 4,3 тыс. британцев, 600 французов и поляков, к которым примкнуло до 2 тыс. норвежцев. Местное население с радостью приветствовало эти войска, но люди не верили, что у союзников хватит сил для того, чтобы защитить мирных жителей от оккупантов. Немецким гарнизоном Нарвика командовал ген.-л. Эдуард Дитль, командующий группой «Норвегия». Он был уверен в том, что удастся отстоять город. Его войска были блокированы, они насчитывали всего лишь 4 тыс. чел., но союзники наступали медленно, что дало возможность немцам перед отходом к границе со Швецией взорвать или вывести из строя другим образом все портовые сооружения. К 10 мая союзнические силы в Норвегии достигли около 25 тыс. чел. Впрочем, к этому времени их поражение стало очевидным. С учетом событий, происходивших во Франции, северная экспедиция все явственнее походила на авантюру. Экспедиционный корпус наступал на Нарвик только для того, чтобы облегчить задачу своей эвакуации. 28 мая город был взят и началось возвращение десанта. 2 июня для прикрытия эвакуации с воздуха в район Нарвика прибыли авианосцы «Ark Royal» и «Glorious». 5 июня Нарвик покинули французы, 7 — британцы, 8 — часть норвежцев.
7 июня на борту крейсера «Devonshire» в Англию эвакуировалась королевская семья и правительство. Король Хакон стал символом норвежского сопротивления. Назначенный монархом главнокомандующим ген.-м. Отто Руге получил предложение Дитля о сдаче - норвежским солдатам предлагалось положить оружие, после чего их обещали распустить по домам. 8 июня германский флот достиг крупных успехов в Норвежском море. «Scharnhorst» и «Gneisenau» потопили два британских транспорта и эскортный траулер, а затем авианосец «Glorious» и два охранявших его эскадренных миноносца. «Glorious» шел на базу в Скапа-Флоу для дозаправки, что объясняет столь слабое сопровождение. Эсминцы сделали все возможное для прикрытия эскортируемого авианосца, но были обречены. Линкоры сделали 387 выстрелов 280-мм. снарядами по авианосцу и 1 448 выстрелов 150-мм. снарядами по эсминцам. Перед гибелью они успели выйти на дистанцию торпедной атаки и даже повредили «Scharnhorst». После уничтожения англичан немецкие корабли отступили, что спасло эвакуацию из Нарвика войск и королевской семьи. Оставшиеся в городе норвежские войска 10 июня прекратили сопротивление. Было подписано соглашение, при этом оговаривалось, что капитуляция не означает прекращения войны между Германией и Норвегии. Солдаты распускались по домам, офицеры сохраняли холодное оружие при условии обещания не оказывать сопротивления германским войскам. Норвежцы даже попытались добиться разрешения оставить часть своих войск для охраны границы с СССР, но немцы не приняли этого предложения.
В боях норвежцы потеряли 1 335 чел., англичане – 1869, поляки и французы – 533 чел. убитыми и ранеными. Германские потери в Дании и Норвегии составили 6 660 чел. убитыми и ранеными. Немцы потеряли 120 боевых и 80 транспортных самолетов, союзники – 112 боевых самолетов. Потери на море составили: у англичан: авианосец, 2 тяжелых крейсера, 7 эсминцев, 1 шлюп, 4 подводные лодки, французы и поляки – по эсминцу и подводной лодке, норвежцы – 2 броненосца береговой обороны. Остальные корабли королевства были захвачены немцами. Потери германского флота были тяжелыми – тяжелый крейсер «Blucher», легкие крейсера «Konigsberg» и «Karlsruhe», 10 эсминцев были потоплены, два тяжелых и два линейных крейсера получили повреждения. Тем не менее это был стратегический успех Германии – она получила контроль над Датскими проливами, базы на побережье Норвегии, её минеральные ресурсы.
Что касается Швеции, то в действия Германии Стокгольм предпочел не вмешиваться. Еще 9 апреля 1940 г. германский посланник принц Виктор цу Вид вручил главе МИД Швеции Кристиану Гюнтеру ноту с предложением сохранять нейтралитет и не вмешиваться в события в соседних государствах, воздержаться от мобилизации и сохранить поставки руды в Германию в прежнем объеме. Эти требования были приняты. В тот же день, 9 апреля, Швеция объявила о своем строгом нейтралитете. Требования Берлина были даже перевыполнены. Впрочем, у Швеции попросту не было выбора. Перед войной на Германию приходилось только 20% всей внешней торговли королевства, но в 1940 году эта доля выросла. С закрытием проливов Зунд и Скагеррак и оккупацией Норвегии шведы потеряли до 70% объема предвоенной внешней торговли и могли компенсировать его только за счет контактов с немцами. Впрочем, до известных пределов.
В 1940 году объем шведской внешней торговли равнялся 50% довоенного. С апреля 1940 г. основным внешним экономическим партнером Швеции стал Берлин. Разумеется, с учетом зависимых и оккупированных стран. До 1939 года на континентальную Европу без учета СССР приходилось 55% всей шведской внешней торговли, в 1941-1943 гг. эта доля выросла до 85%. Большую роль сыграла и потеря значительной части торгового флота. После оккупации Дании и Норвегии и минирования Северного моря транспорты под шведским флагом водоизмещением около 600 тыс. тонн остались в портах Великобритании и США и использовались местными властями на правах аренды. Лишь небольшому числу этих судов было разрешено вернуться.
В связи с проблемой, вызванной неурожаем и невозможностью ввоза в сентябре 1940 г. в Швеции было введено нормированное распределение хлеба, и, как заявил премьер Ханссон – надолго. При этом шведы экспортировали в Германию продукцию сельского хозяйства, прежде всего масло, продукцию машиностроения, сталь, но прежде всего – железную руду. И до войны, и во время войны объем ввозимой Третий рейх шведской руды часто превосходил объем внутренней добычи. В 1939 году в Германии было добыто 3,928 млн. тонн железной руды, на оккупированных территориях – 853 тыс. тонн, из Швеции ввезли 6,226 млн. тонн, из других стран - 4,092 млн. тонн, всего потреблено было 15,099 млн. тонн. В 1940 году уровень добычи железной руды в Германии вырос до 5,019 млн. тонн, на оккупированных территориях – 2,354 млн. тонн. Из Швеции было ввезено 5,339 млн. тонн, из других стран 66 тыс. тонн, всего экономика Третьего рейха использовала 13,378 млн. тонн железной руды. Стокгольм и Берлин заключили соглашение, позволявшее проезд через Швецию т.н. «отпускников» из Норвегии. С 29 июня 1940 по 13. января 1941 г. территорию королевства проследовало в Германию и обратно около 276 тыс. солдат, матросов и офицеров вермахта и кригсмарине.
Если действия Англии и Франции в Норвегии закончились провалом, то и политику СССР в Финляндии можно назвать успешной весьма условно. Достижением было только изменение границ и закрепление нейтралитета Аландских островов. 11 октября 1940 г. было подписано советско-финляндское соглашение, которое обязывало Финляндию «демилитаризовать Аландские острова, не укреплять их и не предоставлять их для вооруженных сил других государств Это означает также, что никакое учреждение или операционная база, военная или морская, никакое учреждение или операционная база военной авиации, никакое иное устройство, могущее быть использованным в военных целях, не может быть сохранено или создаваемо в зоне Аландских островов как Финляндией, так и другими государствами, а существующие на островах фундаменты для установки артиллерии должны быть срыты.» Советский Союз получал право открыть на Аландах консульство, а по всем вопросам, нарушавшим договор, консул получал право обращаться через местные власти к правительству страны для производства совместного расследования.
Достижения были очевидны. Но вместо скрыто недружелюбного Москва получила открыто враждебного соседа. В руководстве Финляндии укрепились самые ярые противники Советского Союза. Военное положение было сохранено, главнокомандующим остался Маннергейм. 28 августа 1940 г. умер президент Каллио, его преемником 19 декабря того же года был избран Рюти. Финляндия все больше ориентировалась на Германию. К 1941 г. на эту страну приходилось 54% экспорта и 55% импорта Финляндии. До войны 44% экспорта и 22% импорта Финляндии приходились на Великобританию. Росли и военные контакты между Хельсинки и Берлином. Эти страны шли к формальному союзу.

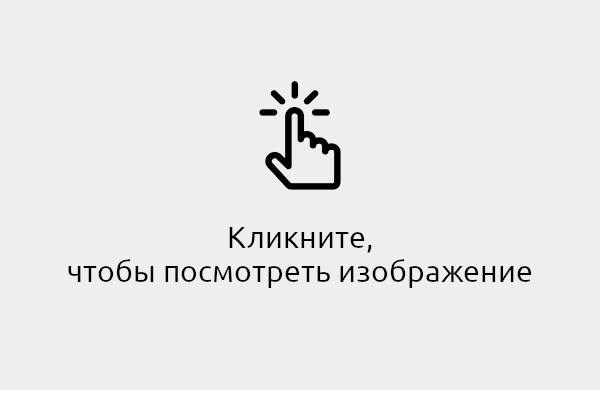
Комментарии читателей (0):