За бурный ХХ век потерпели крах и проекты корпоративистского сплочения общества, и несдерживаемый индивидуализм, и классовые организации. Люди не доверяют бюрократии, рынку, партиям. Традиционные объединения распались, уступив место современному фрагментированному обществу. Что же остаётся? Возможна ли вообще массовая политика в XXI веке или нас уже ничто не способно по-настоящему объединить?
В организации общественной жизни можно условно выделить три принципиальных подхода. Первый стремится исключить конфликты, связав всех граждан воедино идеологией, национальной целью, корпорацией, научным авторитетом технократов (реже — межличностным сочувствием). Второй полагается на желание индивидов улучшить собственную жизнь, опосредованное рынком: если каждый станет прилежным, коммуникабельным, предприимчивым и т.п., то никакой особой политики не потребуется. Третий требует оформления классов/групп с особыми интересами и усиления их борьбы — когда все станут отстаивать свои позиции, а не соглашаться с дискриминацией или угнетением, то и общество в целом станет здоровее, динамичнее, прогрессивнее.
Странным образом ХХ век последовательно дискредитировал все три подхода; но на практике они живы до сих пор, подчас образуя парадоксальные комбинации. Освобождение рынка привело к росту и закреплению (!) неравенства — как между людьми, так и между странами. Олигополии, лоббизм, ущемление прав работников стали притчами во языцех. Тем не менее многие граждане искренне убеждены, что смогут достичь успеха благодаря личному рвению и таланту. Социологи Кейти Моррис, Фелик Булманн и др. исследовали абсурдную закономерность: в Великобритании вера в меритократию у бедных сильнее в районах с большим неравенством (The British Journal Of Sociology, 73,2,2022). Учёные пришли к выводу, что капиталистическая идея подсознательна, не выводится из какой-либо конкретной информации, пропаганды и т.д. Она может сочетаться и с ненавистью к образу жизни богатых. Просто у бедных нет реальной альтернативы, и им приходится выстраивать «психологическую защиту» — надежду на достижение успеха в будущем (обратной стороной является чувство личной вины за неуспех). Следует отметить шаткость и противоречивость подобных взглядов.
Доверие к институтам власти или крупным СМИ почти во всём мире достигло угрожающе низкого уровня. В то же время распространено мнение о ренессансе национальных государств, национализма, сильных лидеров — по крайней мере, некоторые личности в некоторых обстоятельствах способны сплотить значительную часть народа (хотя ставшие классическими примеры Трампа или Брекзита вылились и в острые расколы). Опять же, это можно объяснить ещё большей слабостью альтернативных структур, не менее распространённым в мире замыканием людей на локальных проблемах. Политологи активно обсуждают «политику идентичностей», даже крупные корпорации пытаются отработать «повестку» расовых, сексуальных и иных меньшинств. Вместе с тем классовые партии, профсоюзы и большие сообщества находятся в упадке. «Креативный»/средний класс, как показывают многочисленные исследования, вообще не ощущает общности. Групповая политика склонна скорее к случайному анархизму или частному лоббизму, чем настоящему привнесению в массы классового сознания.
Неудивительно, что современные мыслители пытаются радикально сменить подход к массовой политике, отыскать новые формы и основания для организации граждан. Если общие, абстрактные теории, идущие «сверху-вниз», больше не работают, не стоит ли обратиться к существующим по факту повседневным практикам и отношениям? Одним из таких подходов стала теория «общественных сетей», изучающая, как выстраиваются связи и распространяется информация в реальных коллективах. Она отвергает крайние представления об «индивидуализме» современных граждан, но подчёркивает, что их отношения стали менее формализованными и хуже укладываются в традиционные социологические категории.
Наглядным примером служит исследование Андреа Алечу, Вегарда Ярнесса и др. (The British Journal Of Sociology, 73,2,2022), посвящённое классовой структуре социального капитала в Норвегии. Авторы приходят к выводу, что даже в этой относительно равной стране граждане распадаются на пять почти не пересекающихся страт. В частности, разделительные линии проходят по рабочему классу и, шире, по наёмным работникам в целом. Неквалифицированные и вышедшие из рабочей силы (21,7% от общего числа) оказываются замкнуты в своём кругу, занятые физическим трудом (25,1%) — в своём; квалифицированные (21,2%) поддерживают связь с «профессионалами» (юристы, врачи, священники и т.п.; 14,8%), но также преимущественно общаются с друг другом, обладают характерными для их слоя ценностями и заботами. Особняком стоит высшее общество (17,3%), владеющее большей частью капитала, для которого характерны династические связи и закрытые клубы. Характерно, что деление наследуется, распространяется на браки, моду, поведение, образ жизни, доступ к образованию и медицине, материальную обеспеченность. В ХХ веке марксисты сетовали на рабочих, «подкупленных капиталом», или на консервативные профсоюзы. Вероятно, дело было не в «плохих» индивидах, лишённых классового сознания, а в замкнутых общественных сетях.
История также подвергается пересмотру: например, специалист по коллективному действию Чарльз Тилли утверждал, что успешные революции осуществлялись не передовым классом или его авангардом, а проблематичными альянсами массовых групп и представителей элиты. Перечисленные исследования делают акцент на специфической роли, скрепляющей гражданское общество, — посредниках (медиаторах), располагающихся в точках пересечения общественных сетей, зачастую полностью не принадлежащих конкретной группе (можно вспомнить проблему участия интеллектуалов и оппортунистов в рабочем движении).
Стоит отметить подробное описание профессии управляющих частным капиталом у Брук Харрингтон. Она отмечает, что в среде недоверчивых, замкнутых, конкурирующих элит со времён Средневековья ключевую роль играли доверенные посредники, как правило, набиравшиеся с периферии правящих классов. Эти люди держали целую сеть контактов как с профессионалами (более низкий слой), так и с власть имущими, по сути воплощая «классовое сознание» и «классовый интерес». Без подобных посредников высшее общество могло погрузиться в грызню и хаос, что в истории бывало на удивление часто, если верить теоретику элит Ричарду Лахману. Не таких ли людей не хватает сегодня гражданскому обществу?
Брекзит породил целую волну низовых исследований, пытавшихся ответить на вопрос, почему «естественный» электорат лейбористов из низов поддержал консерваторов в вопросе выхода из ЕС. Интересно одно из них, проведённое Лондонской школой экономики, — «Бросая вызов нарративам упадка городов; улучшая устойчивость сообществ» (2017—2019). В его рамках Инга Кох, Марк Франшам и др. изучали расслоение в четырёх британских городах с различной структурой населения и средним уровнем дохода. Во всех случаях доходы 10% самых бедных совпадали, а «средний класс» находился в меньшинстве (особенно в богатом Оксфорде), что означает резкую поляризацию сообществ. Везде отмечена дискредитация («стигматизация») рабочего класса, сочетающаяся с поддержанием в его среде особой рабочей идентичности (если в Олдеме она сосредоточена вокруг бывшего хлопкового производства, то в Маргите — вокруг пришедшего в упадок бюджетного туризма!). Как ни странно, локальное самосознание передалось и сообществам мигрантов, пытающимся осмыслить британские города как свой новый дом. Большую роль здесь сыграло противопоставление нарратива «города простых работяг» — истории успеха Оксфорда, как центра элитного образования, или, наоборот, образу Маргита, как нищей глубинки. Неслучайно в низах распространено недовольство богачами и местными властями, действующими в интересах крупного капитала. Стоит отдельно отметить упомянутое в начале статьи противоречие: и здесь бедные верят в меритократию, в целом не против богатства как такового; их возмущение переносится на вызывающее поведение и эгоизм «текущих» элит, а не на систему.
Относительно немногочисленный средний класс в каждом городе радикально оторван от остального народа. В некоторых случаях «середину» занимают буквально приехавшие из крупных центров специалисты, привлечённые низкими ценами и проектами местной администрации. Но и представители «коренного» среднего класса живут в обособленных районах, ходят в дорогие кафе, не контактируют с рабочими и не интересуются их жизнью. В первом случае исследователи отмечают полное отсутствие левых или либеральных политических движений, во втором (Оксфорд, например, сохраняет традиции университетского либерализма) — их оторванность от интересов большинства с массовым недоверием активистам. Характерно, что филиалы лейбористской партии также перехватываются «средним классом» и профессионалами, отдаляясь от проблем низших слоёв. Впрочем, авторы предостерегают от идеализации сообществ рабочих. Несмотря на скрепляющую историю, локальность, общих врагов, они также раскалываются на подгруппы. Очевидным поводом являются мигранты, которых белое население характерным образом разделяет на (немногих) «усердно работающих» и (многих) «ленивых». Это отражает противоречие объединяющей рабочей идентичности и разъединённых общественных сетей. Но разделение идёт также на более-менее успешные и «маргинальные» профессии, районы, старые и новые волны миграции.
Важны примеры того, как эти разломы успешно преодолеваются. Где-то активизируются волонтёры и соседства, вступающие в активное взаимодействие с представителями разных «подгрупп», заостряя их общие проблемы; где-то профсоюзы и лейбористские ячейки целенаправленно набирают представителей разных слоёв в локальные проекты. Расовые вопросы слабее в городах, где по внешним причинам мигранты не могли селиться рядом и вынуждены были смешиваться с существующими районами. Попытки администрации Маргита включить приезжий средний класс в более широкие культурные секции и инициативы также дали минимальный эффект, хотя авторы смотрят на это скептически: цены на жильё здесь ещё не успели вырасти, и местных жителей ещё не начали прижимать, так что острый конфликт интересов ещё не оформился.
В итоге исследователи прямо отмечают роль общественных посредников в объединении классов, профессиональных и соседских сообществ. Успешным медиатором может стать и человек на периферии группы, и внешний активист (вспоминается Сол Алинский с его community organizing), и даже чиновник. Проблема в том, что мало кто претендует на эту роль. Партии окукливаются, государство проводит непопулярную политику экономии, интеллигенция с её потенциалом к лидерству закрывается в своей общественной сети. Любопытные штрихи к этой картине (всё-таки упускающей «средние классы») добавляют социологи Вера Траппманн, Адам Мрозовицки и др. (Sociology, 55,3,2021), опрашивавшие прекарную (с нестабильной занятостью) молодёжь в Германии и Польше. Общими чертами респондентов было хорошее образование при малом доходе, критика несправедливости богатых, отрицание принадлежности к классам (в том числе к прекариату; вместо этого говорилось просто о «середине» социальной структуры). Немцы больше порицали «низшие» слои, якобы ленивые и не амбициозные, что оказалось нехарактерным для поляков, подчёркивавших структурное неравенство. Однако авторы приходят к выводу, что идеология успеха у опрошенных являлась очень шаткой, наносной, отражающей скорее их оторванность от политических групп, инструментов, коллективов. Иными словами, низам «среднего класса» также не хватает перемычек, связей, способных активизировать их групповое сознание. Прекарная молодёжь буквально не находит, «где приземлиться», надеясь на временность подобного состояния (чем и подкупает капиталистическая идеология).
Рассуждения о растущем индивидуализме и исчезновении классов замечают проблему, но игнорируют её важнейшие детали. Общества действительно раскалываются на замкнутые сети и находящиеся в «подвешенном» состоянии прекарные элементы. Осознание угнетения, ущемления интересов, несправедливости высших слоёв сочетается здесь с «обесточенностью», скудностью связей, характерной для малых групп слабостью, фактической оторванностью от аналогичных «соседних» фрагментов. На всё это накладывается недоверие большим идеям и структурам, обусловленное как исторически, так и поведением сегодняшней элиты. Идеология успеха и меритократии даёт в таком мире хоть какое-то направление, хотя и приводит к фрустрации, депрессии, чувству вины. Общественная ткань как бы разорвана на лоскуты, и, чтобы мобилизовать на что-либо народ, потребуется сначала залатать дырки. Если крупные фабрики и активисты из числа квалифицированных рабочих (озабоченных трансформациями рынка труда) в значительной мере снимали эту задачу для социалистов прошлого столетия, то сегодня она требует целенаправленных усилий.
Нельзя воспринимать классы, да и вообще группы, как данность. Они и раньше реально собирались лишь в исключительных случаях, довольно быстро распадаясь, подменяясь бюрократией (профсоюзной, партийной). Массив текстов, посвящённый глобальным вопросам (пролетариата, революции, демократии), отодвигал на второй план важность низовой работы. Заводские коллективы с чудесными «передовыми» рабочими, крестьянские общины, солдатские Советы, народные традиции протестов стали восприниматься как нечто естественное именно в ту эпоху, когда собирающие их обстоятельства исчезали. Это не значит, что распалась всякая общность и мы живём в эпоху атомизированных индивидов. Это значит, что вопросы функционирования сообществ должны выйти для неравнодушных людей на первый план.
Читайте также: Лидеры, бюрократы и самоорганизация: кто удержит власть в малых городах

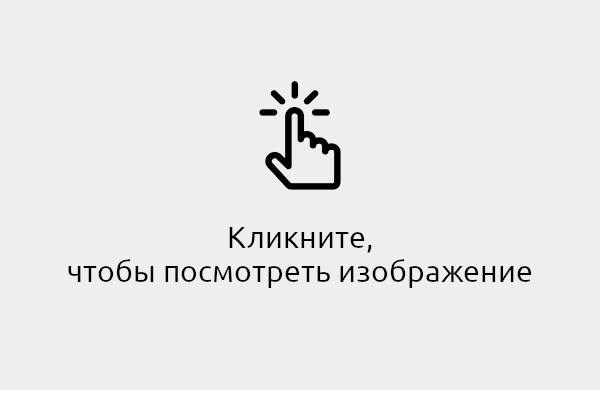
Комментарии читателей (0):