Житель блокадного Ленинграда Юрий Корольков рассказал корреспондентам ИА REGNUM об оккупации на тверской земле, украинских фашистах, блокадных днях в Ленинградской области и огромных жертвах Невского пятачка.
«22 июня мы удили рыбу»
15 июня 1941 года девятилетний Юра Корольков и его отец Иван Варламович отправились с улицы Швецова, где они жили в Ленинграде прямо напротив памятника Кирову, в деревеньку Жоботово. В этой деревне на 15 дворов в Калининской области обитали Юрины бабушка и дед по материнской линии. К тому моменту его отец и мать развелись. «Потом выяснится, что мама успела эвакуироваться в Узбекистан, а мы остались здесь», — говорит Юрий Иванович.
Домой на улицу Швецова Юра так никогда и не вернется, но он об этом пока не знает. Ведь 15 июня войны еще не было.
К деду Илье и бабушке Анне Ионовне он любил приезжать. Его дед Илья Давыдович Зябкин попал в жернова эпохи. В Первую Мировую он был улан, прошел всю войну. Этот полк лейб-гвардии Русской императорской армии — элитная конница, на груди — черный крест «Помните, чье имя носите», набирали туда высоких, статных брюнетов с «приятными физиономиями». Эти черты Юрий Корольков явно унаследовал от деда.
Илья Давыдович оказался в плену в австрийских шахтах и серьезно повредил желудок. Когда их отпустили, он вернулся в Петроград, откуда уходил на фронт, но ждала его совершенно другая страна.
«Уланские полки — это полки Его Величества. Но вместо Его Величества он вернулся уже больным в советскую власть. Ему в Петрограде врач сказал: если хотите пожить со своей болезнью, поезжайте на природу», — вспоминает его внук спустя сотню лет. Илья Давыдович поехал туда, где обещали выделить место под хутор — рядом с родной сестрой в Тверской губернии.
Деревушка была очень маленькая. А то, как жили родные Юрия Иванович — беднее просто невозможно. Маленький домик — все равно что карточный. Сени холодные. Одна комната, в ней стоит большая печь. На зиму весь фундамент обсыпают снегом, наполовину окна забивают травой сухой или опилками. Так и зимуют. «А когда отеляется корова, то теленок живет вместе в этой же комнате. И я жил с теленком, неоднократно причем», — смеется Юрий Корольков.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
«Светлая ему память, я к нему очень хорошо отношусь, но вот дед никак не мог вписаться в сельское хозяйство, — улыбается Юрий Иванович. На лошади он только воевать умел. Но что он любил — это рыбную ловлю. Каждую свободную минуту, если была возможность, сбегал на рыбалку. И меня забирал с собой, если я был там».
22 июня они тоже удили рыбу. Вечером вернулись в деревню, и путь их пролегал мимо школы, над которой был единственный репродуктор. Под ним — толпа. Выступает Молотов и говорит, что началась война.
«Деревня не поняла, что произошло, когда вошли немцы»
На утро, пока Юра еще спал, его отец уже уехал обратно в Ленинград на службу, оставив сына на попечение старших родственников. Иван Корольков работал «в органах», как выразился блокадник. Поначалу не хотел открывать, в каких именно, но настаивал: не в НКВД. Наконец, сдается: отец служил в прокуратуре. «Вы, наверное, заметили, я пытался умолчать», — улыбается он, но почему пытался, по какой такой советской привычке, вряд ли сможет сейчас объяснить. «Главное, не думайте, что «органы» — это сплошные начальники, которые сидят и руководят», — добавляет Юрий Иванович.
Калининская область тогда впечатляла размерами. Ей отдали несколько районов от Западной, Московской и Ленинградской областей, сформировав новый регион в 1935 году. И она одной из первых пострадала от наступления немцев. Как говорит Юрий Иванович, еще до прихода врага деревенские уже чувствовали, что фронт прорван, а фашисты продвигаются так, как им хотелось.
9 августа 1941 года в деревню, где оставался Юра Корольков, вошла немецкая дивизия.
«Дивизия вошла по единственной дороге, которая проходила дальше на восток, углубляясь в нашу территорию. Это была моторизованная дивизия вермахта. Всё было настолько быстро, что деревня совсем не поняла, что произошло», — говорит Корольков.
С 22 июня и до начала августа они не видели никого. Был только скот, который гнали и гнали на восток, мимо деревенских, чтобы спасти хоть что-то с уже захваченных территорий. И вдруг в деревне появились вооруженные люди.
«Моя память забыло многое, что было 10−15 лет назад, но то, что происходило тогда — всё хранит. Надо сказать объективно: боевые части немцев не зверствовали. Ни скот не отнимали, ничего. За исключением охоты на кур. Сейчас это звучит немножко смешно, наверное, но вся деревня стонала оттого, что немцы бегали за птицей с палками. Ведь куры в деревне всегда отпускались на «вольные хлеба». Еще немцы разрешили выгнать весь скот и пасти его, я, честно сказать, ходил вместе с пастухами. Для нас это все было нечто непонятное, мы ничего не соображали. Я не понимал, как ребенок, но и мои дед с бабушкой тоже не понимали», — замечает Юрий Иванович.
Он думает, что немцы были настолько уверены в своей победе, что они уже смотрели на этот скот как на свой. Который, конечно же, надо пасти. Через несколько дней немецкая дивизия ушла дальше на восток. А целый округ остался неизвестно при какой власти. Но спустя какое-то время здесь снова появились люди с оружием.
«Первым делом они стали готовить виселицу»
В тверскую деревню вошли подразделения украинских коллаборационистов, которые поддерживали гитлеровцев.
«Эти были более жёсткие, чем немцы. Они забирали мясо, молоко, шпик. Они говорили только по-украински, на чистом русском не говорили. Я тогда впервые с ними столкнулся», — рассказал Корольков.
Вряд ли этих украинцев уже можно было официально отнести к иностранным формированиям войск СС, которые насчитывали, по разным оценкам, более полумиллиона человек. Но в целом в фашистской армии были солдаты не только из Украины и других советских республик, например, Белоруссии, Армении, Латвии, Грузии, Эстонии, но и из Средней Азии, из Португалии, Испании, Болгарии… Как считает Юрий Корольков, немцы им не очень-то доверяли и ключевые направления не давали. Однако прочувствовать на себе их устремления ему удалось.
«Украинцы недолго пробыли. Но мы впервые в деревне познали, что такое война. Вместе с этой дивизией пришли полицаи. По внешнему виду, по их разговорам я понял, что полицаи были немцами. Сразу с чего они начали — готовить виселицу для учительницы», — говорит Юрий Иванович, и голос его срывается, он почти плачет.
«Это было для нас всех — как снег на голову. Мы все вообще просто онемели, — продолжает он, и сам долго молчит. — Потому что учительница была всего лишь начальной школы. Она не была ни коммунистом, никем».
Когда справляется с собой, поясняет: учительницу принялись спасать женщины. Больше никого в деревне-то и не осталось — все, кто мог воевать, давно ушли на фронт, остальные были в плену. Женщины принялись реветь, плакать. Это, кажется, немного повлияло на немцев. По крайней мере, они отложили казнь.
«А так уже всё было готово для того, чтобы вешать. Это пробудило несколько представление о том, что такое война. Что такое немцы», — заключает Корольков.
Из сотни жителей окружных деревень Тверской области после войны вернулось по два, по три человека. Этот край больше не встал на ноги. Некому было вставать — не было мальчиков старше 12−14 лет. Все остальные погибли.
«Но они погибли не в боях. Они погибли из-за быстрого наступления немцев с 22 июня по 9 августа», — уверен блокадник.
Курс на Осиновец
Сам он был сыном работника правоохранительных органов советской власти. Девятилетнего Юру принялись прятать — по родственникам, по лесам и подвалам. Он убежден, что отец уже все понимал и очень беспокоился, будучи в Ленинграде. В войну Иван Корольков занимался тем, что формировал базы для партизан, вывозил женщин и детей из осажденного города.
В феврале 1942 года, в самый тяжелый период, он каким-то образом сумел приехать за сыном на оккупированную территорию. Как они выбирались, Юрий Иванович уже не в состоянии описать, но оказались в Кобоне — деревне в Кировском районе Ленобласти, важнейшем перевалочном пункте на Дороге Жизни.
Там они оба должны были пройти санитарную обработку, чтобы попасть в машину, которая шла по льду Ладожского озера в сторону Ленинграда. Юрий Иванович до сих пор поражается тому порядку, который существовал в Кобоне.
«Это три маленьких домика, каждый метров по пять, между собой связаны переходами. Ты входишь в первый домик — с тебя снимают всю одежду, оставляешь ее, входишь во второй домик — тебе обрабатывают волосы от насекомых, поступаешь в третий домик — там паровая баня с горячей водой. Все домики маленькие, но людской поток не прекращается. Наконец, выходишь в четвертый домик, а туда уже принесли одежду, которую ты оставил в первом. Дисциплина — железная, ничего чужого не прихватишь, своего не пропустишь. Выходишь — ты готов к тому, чтобы ехать», — рассказывает он.
Раньше 16:00 никого в машину даже не сажали. Это были исключительно грузовики, которые уже что-то перевозили. В путь они отправлялись под вечер, когда в январе уже опускаются сумерки, а в половине пятого — и вовсе накрывает тьмой. Машины шли с определенной дистанцией между собой, обходили воронки, где разбит лед.
«Я это бодро рассказываю, когда мне 86 лет, а с тех пор прошло 75! Но на самом деле, конечно, во время движения я ничего толком не соображал и не видел, кроме воронок, когда нас снимали с кузова, чтобы мы пешком прошли, а машина проехала — по колеса она, бывало, погружалась в воду», — замечает Юрий Корольков.
Курс они с папой держали на Осиновецкий маяк — тот самый, который освещал путь многим выжившим в ленинградскую блокаду на Дороге Жизни. Добрались до Осиновца они лишь к ночи — скорость была не более 30 км/ч. Там их арестовали.
«Потому что никто без специальных распоряжений и разрешений с захваченной территории ехать не мог. Тем более я. Куда звонил отец, я не знаю, что он делал — не знаю. Я сидел в какой-то кутузке. Наконец, нас отпускают, и мы едем до железнодорожной платформы Всеволожская. И теперь вся моя блокадная жизнь пройдет там», — говорит Корольков.
Один-единственный раз отец отвезет его в Ленинград — посмотреть на их разрушенный дом. Во время бомбардировки снаряд влетел через стену, пролетел их комнату, вылетел через вторую стену на лестницу и взорвался. «У нас была библиотека, которая была полностью разрушена, все книги разбросало на лестнице… Отец мне сказал: «Ты теперь уже, наверное, больше сюда не вернешься», — вспоминает Юрий Иванович. И он не вернулся.
Иван Корольков, может быть, надеялся, что ему дадут какое-то жилье в Ленинграде взамен уничтоженного. Но ничего не дали, а просто перевели на Всеволожскую работать. Там он договорился с очень пожилой женщиной, снял у нее угол, где поместил сына. А сам мог пропадать на работе по месяцу-полтора.
«Это не вписывается в сегодняшнюю реальность»
На юге Ленинграда было тяжелее всего. Там у отца жили три родные сестры — Настя, Дарья и Лены. У Лены было трое сыновей, самому старшему — 14 лет. Они все умерли. Юрий Иванович, пусть и не напрямую — не решался задавать такие вопросы отцу, но пытался выяснить, не мог ли тот чем-то помочь сестрам. А он не мог. Потому что, даже если бы и было у него, что им дать, преодолеть 20 км зимой пешком было невозможно.
«Что было — это тяжело мне рассказать. Были такие вещи, которые уже не вписываются в сегодняшнюю психологию, в сегодняшнюю реальность. Немцы знали, что они делали. Они были уверены, что никакого патриотизма не будет, что большинство народа недовольно советской властью, советская власть сажала их, репрессировала. И они не могли этого понять. Они город Ленинград могли взять — так многие говорят. Мои друзья, которыми я обзавелся во взрослой жизни, были старше лет на 10, и они воевали. И говорили, что немцы очень берегли своих солдат. Настолько они были уверены, что здесь уже не произойдет ничего», — говорит Корольков.
По его мнению, к северо-востоку от Ленинграда, в не захваченной врагом части Ленинградской области, где он находился, людям было легче пережить блокаду. Всеволожск сейчас разросся, а тогда это был сосновый лес и дачные домики.
«Сейчас уже не узнать, высотные дома… Я иногда туда езжу. Когда мы очутились на Всеволожской, там была обстановка лучше для продуктов, чтобы что-то есть, питаться. Хотя, честно говоря, это неправильные я слова произношу…», — задумчиво тянет блокадник.
Местные дети, от 6 до 14 лет, сбились в компанию. Юре уже было около десяти. Ни одного дня не было, когда бы ребята не знали, чем им заняться. Во-первых, нужно было посмотреть окопы за Всеволожском. Они были вырыты для того, чтобы часть войск отдохнула, когда другая уходила на передний край. И там можно было найти патроны, гранаты, иногда даже что-нибудь съестное. Так что график смены частей дети выучили наизусть.
«И мы всегда проверяли. Если находили гранаты, то у нас были парни 14 лет, которые, пока мы лежали на берегу озерца, бросали гранаты в воду, чтобы глушить рыбу. Мы знали, где разбомблены продуктовые склады. Один склад сгорел, а там был сахар, сахар расплавился и пропитал землю. Мы ее зимой долбили, расплавляли в воде, кипятили, давали отстояться и эту сладкую воду забирали», — говорит Юрий Корольков.
В десять лет — против «Рамы» и «Мессера»
Юру во время войны несколько раз обстреливали вражеские самолеты. Он запомнил на всю жизнь, как попал в прицел немецкой «Рамы» — так у нас называли двухмоторный немецкий разведчик Focke-Wulf 189. У советских солдат существовала примета: прилетела «Рама» — жди бомбардировщиков.
В декабре 1941 года, еще в деревне деда, Юра Корольков вышел из дома на центральную деревенскую улицу и услышал: «Щелк! Щелк! Щелк!». Пули по дороге.
«Висит «Рама» и стреляет по мне — больше никого нет. Я был сообразительный, быстро шмыгнул за дом. И он разворачивается тоже! Вот это их нахальное поведение было законом. Это было первое крещение моей нервной системы. Я стал бояться самолетов. Даже в лесу, услышав вой, прятался, хоть за деревьями самолет меня и не мог увидеть», — вспоминает Корольков.
В другой раз это произошло уже под Ленинградом. Он отправился из Всеволожска в поселок Колтуши отоварить карточки. Помнит, что в Колтушах можно было получить даже конфеты — леденцы или подушечки. Юра спокойно брел по пыльной дороге, везде — но, кажется, поодаль — раздавались звуки орудий или самолетов, но к этим шумам он слишком привык.
«Вдруг вижу: фонтанчики пыли на дороге вокруг и около меня. Понял, что стреляет кто-то по мне. Поворачиваюсь — на меня идет «Мессер» на высоте где-то 40−50 метров. В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Марьино иногда включают звук его полета… Как на тебя летит «Мессершмитт» и стреляет по тебе, забыть невозможно», — говорит Корольков.
С первого раза немецкий стрелок не попал. Но, пока пилот разворачивался, Юра уже успел прыгнуть в окопы — если бы не они, то прятаться тогда ему было бы совсем негде. Дважды немецкий истребитель пролетал над пустырем в поисках ребенка, но в траншее его так и не заметил. А Юра навсегда запомнил рев этого мотора и пулеметную очередь.
«Невский патячок — жуткое место»
Особо ноет его сердце при упоминании Невского пятачка. «Это больная… больная штука», — вздыхает он. Блокадник готов подтвердить через рассказы своих друзей-ветеранов всё, что там произошло. Четырежды советские войска пытались прорвать блокаду Ленинграда через Невский пятачок, чтобы добраться до Мги, железной дороги и пути «на большую землю». Три операции 1941−1942 годов не удались, с Синявинских высот немцы отлично просматривали маневры советских солдат и накрывали их огнем.
«Жуткое место. Жуткое. Он же примерно размером 400 метров на 1,5—2 км. По неофициальным данным, там погибло 250 тысяч человек. Если их положить рядом, его можно закрыть телами два раза», — со слезами на глазах говорит Юрий Иванович.
В 1956 году он работал на 8-й Кировской электростанции вместе с теми, кто форсировал Неву в этом проклятом месте.
«Скажу вещи, которые не публиковались, но только назывались. Официально — это знал хорошо мой отец по своим каналам, но никогда толком ничего не рассказывал, то ли подписку давал, то ли такое время было — но он знал, например, что, когда наш флот из Таллина перегнали в Кронштадт, то сотни тысяч матросов были списаны в сухопутные войска и брошены на Невский пятачок. То, что не очень широко известно: был обнаружен предатель уровня генерала, который выдавал наши планы немцам о форсировании Невского пятачка. Это сыграло огромную роль. Не удалось нам прорвать блокаду через пятачок. На последнем прорыве напротив Марьино мы потеряли 120 тысяч человек. Немцы потеряли 19 тысяч всего», — говорит блокадник.
Корольков вдруг вспоминает другое сражение, на 130 лет раньше — когда русские гнали французов через реку Березину на излете Отечественной войны 1812 года. Наполеоновские войска отступали, но дали знаменитое сражение. Там погибли почти все французские драгуны.
«Что такое жертвы? Можно я вам скажу, что это такое. Драгуны все были высокого роста. Прошло сто лет, и французские ученые заявили, что с 1812 года Франция не может восстановить средний рост мужчин, который был до гибели полков при Березине. А сколько мы потеряли? С Крымской войны 1853 года и до завершения Второй Мировой мы потеряли, как Россия, более 50 миллионов мужского населения. Казалось бы, потеряли и потеряли, живем же всё равно? Но от нас уехало где-то 2,5 миллиона женщин. В Европу, на Восток. А что им делать, нашим любезным женщинам? Ничего не остается больше. Это то, что произошло после войны — это громадная трагедия. Я говорил, что на сто человек в деревни Тверской области вернулось по два или три. Там погиб мой дядя родной. Они все попали в плен, более 1,5 миллиона человек, не взяв в руки винтовки», — сокрушается он.
Здесь Юрий Иванович осекается и вспоминает о менее трагичном — как он говорит, «для разрядки». Оказывается, был у него родственник, который рассказывал, как 17 раз форсировал Неву — в то время как и после первого раза многие не возвращались. Но он ни разу не был ранен. Пули попадали и в винтовку, и в автомат, вся шинель была изрезана осколками. Но дядя Лёня был, «как ангел, ни одного ранения».
***
Пока Юрий Корольков все это рассказывает, он иногда заикается. Чем тяжелее ему говорить, чем чаще он приближается к войне в своих мыслях, тем сильнее это заметно. Удивительно, но получил он расстройство нервной системы вовсе не при обстрелах и бомбежках. Юрий Иванович называет себя «первым электриком» тех лет. Его ударило током, когда схватился за провод во время блокады, стоя на мокрой земле — не знал, что в сети уже дали напряжение в 1942 году. Спасло только то, что провод был высоко, он оторвался от земли, разомкнув цепь, да так на нем и повис. Очнулся с заиканием.
А затем, что символично, почти всю жизнь проработал в «Ленэнерго». На пенсию вышел в 1995 году в должности начальника системы автоматизации и главного метролога. Трудился в этой ипостаси больше 25 лет, сотрудничал с ведущими институтами Москвы, работал с японцами, финнами, немцами и украинцами. Ни о ком не может сказать плохо.
«Сейчас, когда получился разлад с Украиной, мне очень неприятно. Я долго работал на станции на Николаевщине», — вздыхает он. Юрий Иванович занимался альпинизмом, он призер первенства Советского Союза по борьбе самбо, мастер спорта. «Я в шутку говорю, что у меня рабочий стаж больше, чем мне лет. Всю жизнь работаю на двух работах», — шутит он. У него две дочери и трое внуков.
Бабушка с дедом, которые укрывали его в оккупации, войну пережили. До Юрия Ивановича уже после дошли ужасные сведения, когда мать вернулась из Узбекистана и попыталась связаться со своими родителями. Те были репрессированы.
«Случилась беда большая. Их обвинили, будто бы они имели какие-то отношения с немцами. С немцами там в деревне никто никаких отношений не имел. Думаю, что их подвело в какой-то степени, что дедушка был уланом. Это такой яркий момент отрицательного порядка, когда были гонения. Обвинили и посадили в тюрьму — под Калининым», — сказал Юрий Михайлович.
Анну Ионовну и Илью Давыдовича, конечно, реабилитировали. Но было поздно — у деда было подорвано здоровье еще австрийскими шахтами, и после заключения он быстро ушел из жизни. Реабилитацию получил уже посмертно. «А бабушка вернулась из заключения и жила с матерью. Умерла уже здесь», — добавляет Юрий Корольков.

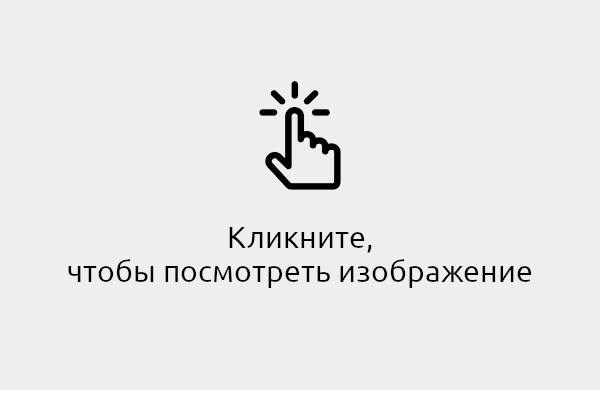





Комментарии читателей (0):