Главным предметом непрекращающейся по сей день озабоченности постсоветских элит после распада СССР стала максимальная легитимизация возглавляемых ими новых независимых государств. Мощным инструментом этой легитимизации является историческая наука, в лице своих ведущих представителей усердно обслуживающая собственную политическую элиту, которая «изобретает и конструирует историко-культурную традицию, чтобы утвердить свой статус и легитимность» [1] прежде всего с помощью профессиональных историков. Впрочем, постсоветские элиты, страдающие от различных проявлений острого когнитивного диссонанса и многочисленных комплексов, проигрывают своим западным соседям в умении ставить себе на службу историю.
В наибольшей степени политическая мобилизация исторической науки государством достигнута в современной Польше, где трепетную музу истории Клио превратили в усердного госчиновника, курирующего вопросы пропаганды и идеологической войны. Активно действующий в Польше Институт национальной памяти с большим штатом высокооплачиваемых сотрудников и с отделениями во всех польских регионах выступает в качестве эффективного приводного ремня между историей и политикой, а также в роли идеологического надсмотрщика за научной и общественно-политической жизнью, усердно выявляя, маргинализируя и карая несогласных с «генеральной линией партии». В этой связи не вызывает удивления системная, последовательная и наступательная гуманитарная политика Варшавы в соседних постсоветских странах, призванная подкрепить ее амбиции региональной сверхдержавы и монопольного обладателя права на историческую истину.
За прошедшие 23 года после распада СССР национальные историографии постсоветских стран успели продемонстрировать удивительные метаморфозы, способные поразить даже видавших виды читателей научно-фантастических романов. Декларируемая «демифологизация» и борьба с изъянами советской исторической науки зачастую обернулись новым, еще более агрессивным и беспардонным мифотворчеством.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
Активно выдаваемые «на гора» постсоветскими историографиями новые мифы – включая «мифы происхождения во времени и в пространстве», «миф освобождения», «миф упадка» и «миф возрождения» [2] временами заставляют с ностальгией вспоминать советскую историческую науку, которая – при всех своих многочисленных изъянах и конъюнктурности – тем не менее, выглядит примером академической солидности в сравнении с некоторыми наиболее одиозными образчиками постсоветских историографий.
Так, некоторые украинские ученые всерьез ищут и даже умудряются находить прямых предков современных украинцев в носителях трипольской культуры и распространяют этнические границы Украины вплоть до Абхазии. Не менее размашисты в своих географических представлениях об ареале обитания древних грузин и современные грузинские историки. Столь трепетно лелеемый постсоветскими историографиями «миф упадка» выстраивается исключительно вокруг России, демонизация которой давно превратилась не только в хобби постсоветских историографий, но и в своего рода соцсоревнование историков, стремящихся как можно быстрее выдать своему политическому начальству очередную порцию разоблачений «российского империализма».
Не смогла избежать сих детских болезней постсоветских историографий и белорусская историческая наука, предсказуемо ставшая важным инструментом легитимизации современного белорусского государства. Здесь, хоть и не столь «весомо, грубо, зримо», как в иных постсоветских историографиях, тоже имеет место тенденция к формированию и тиражированию вышеупомянутого набора мифов. Так, педалирование «мифа происхождения во времени и в пространстве» проявляется в попытках некоторых историков «обелорусить» те части Киевской Руси, где позднее формировался белорусский этнос, за счет замалчивания и отрицания общерусской природы древнерусского киевского государства. Полоцкое княжество при этом с подкупающей непосредственностью объявляется «древнебелорусским» государством и с корнем вырывается из общерусского контекста Киевской Руси. Как посетовал недавно видный белорусский историк и археолог Э.М. Загорульский, оценивая современное состояние белорусской исторической науки, «появилось немало работ, в которых искажаются сущность эпохи, место и роль отдельных княжеств в системе Киевской Руси, …восхваляется сепаратизм полоцких князей. Явно прослеживается тенденция дистанцировать Западную Русь от остальной Руси, замолчать вопрос об общих исторических корнях восточнославянских народов». [3]
Назойливо подчеркивается исключительно белорусский характер Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и его особая правосубъектность в рамках Речи Посполитой, хотя с конца XVII века после полонизации белорусской и литовской элиты «Литва» считалась неразрывной исторической частью Польши, не более чем одной из ее провинций. Пресловутый же этноним/политоним «литвин», вызывающий нездоровое возбуждение у ряда современных белорусских мифотворцов, в польском политическом лексиконе той эпохи означал не более чем региональную принадлежность поляка, подобно жителю Мазовии или Куявии. По словам белорусского историка И. Марзалюка, «термины «литвин», «мазур», «поляк-крулевяк» в условиях шляхетской реальности конца XVIII – середины XIX в. никогда не использовались их носителями для национального противопоставления; эти названия региональные, субэтнические, так как все они – поляки и имеют одну родину – Польшу». [4] Что же касается идентичности подавляющего большинства шляхты восточных областей бывшей Речи Посполитой, то, как подчеркивает И. Марзалюк, она является польской – так, например, «в обращении к сейму в 1831 г. шляхта Литвы, Волыни, Подолии и Украины выразительно засвидетельствовала свою принадлежность к польской нации и к Польше, с которыми ее объединяют в одно национальное и культурное целое историческая традиция, обычаи и родной (естественно, польский) язык». [5] Совсем уж курьезным выглядит стремление некоторых наиболее «креативных» мифотворцов объявить белорусами… Т. Костюшко и А. Мицкевича. Как отмечают серьезные современные исследователи, объявляемый «белорусским героем» Костюшко «мечтал о полной польской языковой ассимиляции всех селян-русинов», Мицкевич же «не просто осознавал свою польскость, но являлся одним из творцов модерного польского национализма… Белорусы для Мицкевича – народ без традиций собственной государственности, народ неисторический, лишенный какой-либо исторической субъектности…». [6]
Не ослабевают попытки придания белорусской окраски польскому восстанию 1863-1864 гг. и одному из его лидеров на территории белорусско-литовских губерний В.К. Калиновскому при всей очевидной уязвимости данной интерпретации, явно противоречащей историческим источникам.
На этом весьма заидеологизированном фоне выделяется вышедшая в конце 2013 г. монография Ю.А. Борисёнка «На крутых поворотах белорусской истории». Название работы удачно отражает ее суть – автор, выбрав жанр исторических очерков и проанализировав в их рамках узловые сюжеты белорусской истории, сумел создать впечатляющую смысловую конструкцию, предлагающую свежее, в ряде случаев альтернативное прочтение ряда краеугольных событий, продолжающих оставаться дискуссионными в современной историографии. В известной степени достигнуть этого автору удалось благодаря творческому применению знаменитого дедуктивного метода Шерлока Холмса. Берясь за расследование малозначащего и второстепенного, на первый взгляд, сюжета, Ю.А. Борисёнок нащупывает в результате важное смысловое звено, позволяющее выйти на более широкий уровень обобщения – как, например, в случае с историей о строительстве железной дороги Динабург-Витебск, начавшемся в разгар восстания 1863 года. Впечатляет и основательная источниковая база работы: наряду с обширным кругом опубликованных источников автор использовал материалы ряда российских и белорусских архивов, включая АП РФ, ГАРФ, РГАСПИ, РГАЛИ, а также Зональный государственный архив в г. Полоцке.
Монографию «На крутых поворотах белорусской истории» выгодно отличают размеренно-основательный анализ, неспешно-ироничная манера повествования и отсутствие обличительного пафоса в сочетании с конструктивным и взвешенным взглядом на исследуемые вопросы, которые, что очень важно, рассматриваются в широком общеславянском контексте. Автор часто и весьма органично проводит любопытные параллели между различными явлениями белорусской истории и сюжетами из сербской, чешской и даже словенской истории. Что же касается польских сюжетов, то они присутствуют на протяжении всей работы: как профессиональному полонисту, Ю.А. Борисёнку удалось отыскать такие нетривиальные ракурсы изучаемых явлений, которые вряд ли были бы под силу исследователю без солидного багажа знаний из области полонистики.
***
Говоря о специфике белорусской проблемы до начала ХХ века и ее проявлениях, автор определяет ее как «большое пограничье» между Россией и Польшей не только в географическом, но и в ментальном и этнокультурном отношении; при этом «этнографическая территория расселения белорусов стала ареной соперничества российского и польского начал… Формирование белорусской нации и развитие белорусской культуры были в значительной, если не решающей степени связаны с развитием этого политического и этнокультурного противостояния в условиях пограничья» (С. 36-38). Тезис о белорусских землях как «большом пограничье» между Россией и Польшей и арене их соперничества удачно визуализирован на обложке монографии, где известный крестьянин-белорус кисти И.Е. Репина на фоне карты Белоруссии изображен между ликами двух харизматических государственных мужей в лице Ю. Пилсудского с запада и И.В. Сталина с востока…
Затрагивая вопрос о ВКЛ и его государственной и этнокультурной эволюции после слияния с Польшей в результате Люблинской унии 1569 г., Ю.А. Борисёнок констатирует, что «специфические традиции ВКЛ к концу XVIII века были практически полностью утрачены, общественные верхи полонизированы…» (С.38). Автор солидаризируется с точкой зрения А. Валицкого о том, что принятие сарматской теории литовской и русской шляхтой способствовало «неожиданно быстрой и добровольной полонизации непольской шляхты» (Там же). Автор обращает внимание и на то обстоятельство, что конституция 3 мая 1791 года ликвидировала федеративное устройство Речи Посполитой, а ее творец Г. Коллонтай стремился к культурно-языковой однородности польской нации, что подразумевало ликвидацию автономного статуса Литвы и полонизацию всего населения (С.41). При этом данная тенденция в польской общественно-политической мысли только усиливалась – так, лидер Краковского восстания 1846 г. Э. Дембовский, ставший в польской политической традиции, по остроумному замечанию Ю.А. Борисёнка, чем-то вроде «вечно живого Ильича» в советской пропаганде, провозглашал идеал единой польской нации в границах 1772 г., игнорируя некий особый статус Литвы (С.46).
Польскому централизму в отношении белорусских земель автор монографии противопоставляет «российскую интегральную традицию», которая, по словам Борисёнка, с регионализмом не порывала и «причиной тому стало вполне успешное политическое наступление империи на землях бывшей Речи Посполитой» (Там же). В этой связи Ю.А. Борисёнок логично затрагивает деятельность основоположников западнорусизма, в частности, М.О. Кояловича, делая вывод о том, что практическим итогом их деятельности «стали объективные и весьма информативные исследования традиционной народной культуры, ставшие основой для создания не связанных с политикой этнографических карт. Но именно этот региональный уклон, призвавший вслед за Кояловичем уважать местные традиции, - полагает Ю.А. Борисёнок, - стал впоследствии и благодатной почвой для развития в начале ХХ века белорусского национального движения, и для практического осуществления большевиками своей модернизаторской с виду, но опиравшейся на устоявшуюся традицию белорусской политики» (С.48).
Впрочем, и в польской интеллектуальной традиции автор находит тенденцию к изучению белорусов как особого самобытного этноса, подробно останавливаясь в этой связи на деятельности уроженца Минского воеводства и наполеоновского агента А. Чарноцкого, ставшего в Российской империи одним из первых археологов и исследователей восточнославянских древностей под именем З. Доленги-Ходаковского.
Этнографические изыскания Доленги-Ходаковского, проводившиеся в 1820-е годы, по замечанию Ю.А. Борисёнка, имели не только научную, но и очевидную политическую цель: этот польский ученый «ясно понимал необходимость привлечения к делу восстановления Речи Посполитой не только польской и полонизированной шляхты, но и непольского этнически крестьянства, в частности, белорусского… Это понимание так и не передалось его современникам и потомкам, что в итоге предоставило в первой половине ХХ века удобный плацдарм для этнонациональных экспериментов в духе Сталина и Жданова…» (С.55). Идейные и научные истоки позднейшей советской политики белорусизации автор, таким образом, в известной степени усматривает в одном из течений, хотя и маргинальном, польского научного наследия первой четверти XIX века, что представляет большой интерес. Однако Доленга-Ходаковский в польской политической традиции не был одинок. Подобным образом оказались невостребованными Варшавой уже после возрождения независимой Польши и теоретические наработки в отношении белорусов идеолога федерализма и соратника Пилсудского Л. Василевского, а также М. Федеровского (С.102).
Большое внимание в монографии Борисёнка уделено восстанию 1863 г., которое рассматривается сквозь призму оценок личности В.К. Калиновского – одного из наиболее мифологизированных в белорусской историографии персонажей, а также с точки зрения ведущегося в то время строительства железной дороги Динабург – Витебск. Столь непривычный ракурс рассмотрения восстания 1863 г. позволяет автору звонко щелкнуть по носу тех представителей белорусской историографии, кто непоколебимо уверен как в белорусском характере данного восстания, так и в его исключительной роли в белорусской истории. Использованный автором дедуктивный метод Холмса позволил, в частности, выяснить, что британские инженеры приступили к сооружению железной дороги 18 июля 1863 г. – т.е. в самый разгар восстания, которое, как не без иронии замечает Ю.А. Борисёнок, должно было «по идее поглощать если не все, то очень существенное внимание и властей, и местного населения» (С.67). Пикантность ситуации усиливается тем обстоятельством, что «сооружением стратегического объекта ведают британские подданные – то есть люди, если судить по роли их страны в дипломатическом давлении на Российскую империю в 1863 г. по поводу «польского вопроса», вполне заинтересованные и потенциально опасные» (Там же). Подобные прозаические детали многое расставляют по своим местам и проясняют в событиях 1863 г. на территории белорусско-литовских губерний.
Что же касается самого восстания 1863 г. и одного из его деятелей в лице В.К. Калиновского, то автор совершенно обоснованно констатирует его исключительно польский характер, подчеркивая, что «мираж границ 1772 года... продолжал манить романтичных носителей общепольского национального самосознания, к которым, несомненно, принадлежал и Калиновский, несмотря на все свои агитационные произведения на белорусском языке» (С.68). Ю.А. Борисёнок солидарен с мнением известного польского историка С. Кеневича, полагавшего, что «белорусскость Калиновского была только тактическим средством деятельности польского повстанца в Беларуси» (С.69). Сходной точки зрения придерживается и белостокский исследователь О. Латышенок, уточняющий, что белорусская версия «мифа восстания была создана только в ХХ веке, укрепляя среди белорусских католиков польскую идентичность». [7]
Эти, в общем-то, очевидные истины загадочным образом продолжают оставаться недоступными некоторым современным белорусским историкам, продолжающим изо всех сил «обелорусивать» это польское восстание, считая его «освободительным» для белорусов. [8] М. Бич, например, утверждал, что «восстание 1863-1864 гг. в Польше, Беларуси и Литве… было подготовлено польскими и белорусско-литовскими конспиративными организациями», упрекая польскую, советскую и российскую историографии в том, что они оценивают данное восстание как польское, «не учитывая его особенностей в белорусско-литовском регионе, …где имело место белорусское национально-освободительное движение во главе с Калиновским». [9] Разглядеть «белорусское национальное движение» в действиях Виленского повстанческого центра, называвшего в своих документах белорусско-литовские губернии «польской землей» и действовавшего от имени польского правительства, которое за неподчинение грозило всем виселицей, [10] невозможно даже при помощи сверхмощного микроскопа. Однако М. Бичу каким-то волшебным образом это все-таки удалось.
Высказывает автор и ряд любопытных мыслей по поводу причин того, каким образом польский повстанец Калиновский обратился в белорусского национального героя и в качестве такового по сей день продолжает изображаться в учебниках по истории. Констатируя, что Калиновского сделали белорусским героем «в первое десятилетие существования БССР по согласованию и при содействии с центральными органами большевистской власти в Москве», Ю.А. Борисёнок высказывает предположение, что «мифологизации «белорусского народного героя» благоприятствовало международное положение, вызвавшее к жизни активное воплощение «коренизации» после 1923 года. Калиновский, как известно, действовал именно на западнобелорусских землях, вошедших после Рижского мира 1921 г. в состав II Речи Посполитой. В разгар противостояния с «буржуазной Польшей» был востребован именно такой герой, революционный белорус…, ярый враг именно польских помещиков и католического духовенства. Снятый в 1928 г. фильм явно предназначался не только для агитации в среде советских белорусов, но и обществу Западной Беларуси. Реальный Калиновский при этом был уже никому неинтересен, тем более что в польской историографии… этот персонаж является в лучшем случае героем второго плана, хотя и безусловным поляком…» (С.76).
Совершенно обоснованно Ю.А. Борисёнок критикует и широко распространенный в историографии тезис об усилении русификации в белорусско-литовских губерниях после подавления восстания 1863 г. Констатируя, что «разговоров о русификации было больше, нежели практических усилий в этом направлении» (С.43), автор отмечает отсутствие в белорусско-литовских губерниях земского самоуправления и земских школ; «образовательные ресурсы империи для крестьянских детей Западных губерний были ограничены церковно-приходскими школами, уступавшими земским по уровню преподавания» (С.44). Неспособность имперских властей обеспечить всеобщее начальное образование для местного населения на русском языке способствовала сохранению «белорусских этнических традиций, в том числе и языковых» (Там же).
При этом автор обращает внимание на достаточно активный процесс добровольного усваивания русского языка и культуры белорусским населением, который он удачно определяет термином «авторусификация», когда белорусский крестьянин «без особых проблем и отнюдь не из-под палки» постигал русский язык, оказавшись в городе или на службе в армии. Имел место и аналогичный процесс «автополонизации», протекавший в основном в Вильно и затрагивавший в первую очередь белорусов-католиков. Любопытно, что известный белорусский национальный деятель Я. Лёсик в 1930 г. сожалел по поводу того, что «белорусское крестьянство и городское население охотно принимает русский язык и русифицируется», [11] отмечая при этом, что «полонизация не так страшна, ибо абсолютное большинство белорусского населения против польского языка…». [12]
Большое внимание автор уделяет этнополитическим механизмам модернизации белорусских земель, посвятив данным сюжетам вторую главу своей книги. К окончанию Первой мировой войны и распаду Российской империи белорусы, как пишет Ю.А. Борисёнок, «пришли с крайне рискованным багажом: национальный язык находился под реальной угрозой исчезновения, национальной элиты не было – зародившееся в начале ХХ века белорусское национальное движение таковой стать не успело… Не случайно на выборах в Учредительное собрание в конце 1917 г. белорусские партии и организации набрали всего 0,3 процента голосов» (С.92). Автор проводит здесь интересную параллель, сравнивая положение белорусов в начале ХХ века с положением сербов в XVIII веке, когда сербы тоже имели «очень большие проблемы с национальной элитой и национальным языком» (С.93). Новый мощный толчок формированию сербского литературного языка и сербской культуры дал в XIX веке Вук Караджич, который в ходе своей реформы сербского литературного языка отказался от ранее широко распространенных в сербской культурной жизни церковнославянского, русского и славяносербского языков, «создав единую систему, основанную на образцах устного народного творчества и кодификации языка… Народнический концепт, который выражал Караджич, был основан на народной эпической поэзии, традиционной культуре сербского села…» (С.95).
После столь обстоятельного экскурса в сербскую историю Ю.А. Борисёнок перебрасывает мостик с беспокойных Балкан на белорусские земли уже после установления здесь власти большевиков, делая неожиданный и для многих шокирующий вывод о том, что «Вуком Караджичем для белорусов стал нарком по делам национальностей товарищ Сталин» (Там же). Именно Сталин, по мнению автора, стал ключевой фигурой в большевистском руководстве, настоявшей на решении белорусского вопроса путем создания белорусской советской государственности в виде ССРБ и придания ей действительно белорусского языкового и культурного облика с 1921 года, «когда стало окончательно ясно, что РСФСР не избежать достаточно длительного и беспокойного соседства с возрожденной II Речью Посполитой» (Там же).
Детально показав, что именно Сталин, а не Ленин стоял у истоков создания белорусской советской государственности, политики белорусизации в 1920-е годы в БССР и ее укрупнения в 1924-1927 годах, автор объясняет эти шаги большевистского руководства необходимостью искоренения польского влияния в БССР, спецификой геополитической ситуации, сложившейся после заключения Рижского мирного договора с Польшей в марте 1921 года, а также стремлением Москвы использовать «белорусскую карту» в борьбе с Варшавой. «Стоит отметить, - аргументирует Ю.А. Борисёнок, - что две распространенные в историографии точки зрения на белорусизацию – как на «конкретное воплощение национальной политики коммунистической партии и Советского государства» и о национальной интеллигенции как «инициаторах и авторах политики белорусизации» - одинаково несостоятельны. Речь прежде всего шла о геополитических экспериментах части советского руководства, а «самостийные течения», как и на Украине, становились объектом большой игры на пограничье с Польшей» (С.99). Автор солидаризируется с мнением Я. Бруского о преимущественно антипольской направленности политики коренизации в БССР, определяя ее как «прометеизм наоборот», инициированный с целью пробуждения центробежных сил в Польше и подчеркивая, что в соревновании «двух прометеизмов» советская сторона сразу же получила преимущество (С.130). Акцент на преимущественно внешнеполитической мотивации политики белорусизации в контексте борьбы с Польшей очень важен, поскольку именно этот аргумент в полной мере объясняет действия большевистского руководства. Только внутриполитическими соображениями, включая борьбу с польским влиянием в БССР, политику белорусизации объяснить сложно, поскольку бороться с польским влиянием было бы гораздо проще, опираясь на русскую «высокую культуру», а не на белорусскую, создать которую, по сути, только предстояло в рамках курса на белорусизацию.
Экспортная ориентированность политики белорусизации в БССР с прицелом на Польшу была тем важнее, что западнобелорусские земли рассматривались польской элитой как исконно польские; любое отклонение от «польскости» в данном регионе трактовалось Варшавой как аномалия и печальное наследие разделов и русификации, которые должны быть как можно скорее преодолены путем последовательной полонизации. Если Пилсудский желал, чтобы «черти побрали белорусскую политику», то известный польский консервативный политик и крупный «кресовый» землевладелец А. Мейштович, занимавший в 1926-1928 гг. пост министра юстиции в правительстве Пилсудского, в январе 1922 г. в Вильно утверждал, что «Белоруссия самой историей предназначена быть мостом для польской экспансии на восток. Белорусская этнографическая масса должна быть переделана в польский народ. Мы должны способствовать этому приговору истории…». [13] В подобных условиях Второй Речи Посполитой политика белорусизации в БССР была адекватным и достаточно эффективным ответом на столь суровый приговор, вынесенный «белорусской этнографической массе» А. Мейштовичем.
Таким образом, ставка советского руководства на «современный по тем временам проект строительства наций на востоке Европе» принесла зримые плоды; при этом, как справедливо замечает автор, «украинская и в еще большей степени белорусская нации, равно как украинский и белорусский языки, были тогда в значительной степени «воображаемыми сообществами» (С.103). В известном смысле Сталин действительно сыграл роль Вука Караджича для белорусов, но не в силу какой-либо особой любви к ним, а по прозаической причине далекоидущих геополитических калькуляций в отношении II Речи Посполитой, начисто переиграв на шахматной доске этнополитики первого маршала Польши, громоздкая конструкция которого ненадолго пережила самого Пилсудского, стремительно рассыпавшись в 1939 году.
Говоря о Вуке Караджиче, впрочем, полезно вспомнить мнение некоторых современных сербских интеллектуалов, считающих Караджича безусловным филологическим гением, но одновременно политическим профаном и инструментом австрийской этнополитики: отвергнув церковнославянский и русский языки и сделав основой сербского литературного языка исключительно народные говоры, он ослабил русско-сербские связи и изолировал Сербию от русского культурного влияния, реализовав тем самым сокровенные этнополитические замыслы Вены.
Нечто подобное можно было наблюдать и в ходе политики белорусизации в БССР в 1920-е годы. Так, председатель комиссии ЦКК ВКП(б), изучавшей национальную политику в БССР в 1929 г. В. Затонский в своем докладе в июне 1929 г. отмечал, что если обычные белорусы «от русских сами себя дифференцируют нечетко», [14] то среди белорусской творческой интеллигенции наблюдается «концентрированная ненависть ко всему, что идет из Москвы. Характерно, что на целом ряде собраний, где были белорусские интеллигенты, - отмечал Затонский, - от меня демонстративно требовали, чтобы я говорил по-украински, но не по-русски, хотя несомненно русский язык им больше привычен и понятен, чем украинский. …Окрепший белорусский кулак явно наступает, сдавая национальные позиции Пилсудскому и тем выше поднимая знамя национализма против диктатуры пролетариата, под видом защиты белорусской культуры от руссотяпов, ведя травлю всего, что исходит от Красной Москвы, а в это время ЦК Белоруссии продолжает старую политику заигрывания с националистами…». [15] Оргпоследствия в виде разгрома «нацдемов» последовали незамедлительно; политика «белорусизации» была существенно скорректирована и впредь проводилась в более приемлемом для Москвы формате с учетом интересов союзного строительства и без «нацдемовских» перегибов.
Глава об этнополитических механизмах модернизации логично перетекает в главу, посвященную административно-государственным механизмам модернизации, которая на конкретных примерах подкрепляет и развивает ранее высказанные мысли. Большое место и здесь отводится анализу политики белорусизации; при этом автор еще раз констатирует, что большевистское руководство «во главе с самим товарищем Сталиным прочно оседлали белорусскую политику и превратили ее… в действенное орудие борьбы с беспокойным польским соседом… При решении белорусских проблем, в том числе и территориальным вопросов, во главу углу ставились не этнографические и даже не социально-экономические аргументы, а принцип политической целесообразности» (С.129). Данный тезис раскрывается весьма последовательно и убедительно; особенно наглядным в этом отношении представляется сюжет, посвященный перипетиям борьбы вокруг административно-территориальной принадлежности Полоцка и проблеме определения границ между РСФСР и БССР в первые десятилетия советской власти.
В ходе детального анализа причин и механизмов, определявших становление границ БССР, автор выражает несогласие с точкой зрения белорусского историка С.Н. Хомича, считавшего, что главную роль в укрупнении БССР сыграло ее руководство в Минске, а союзные структуры, прежде всего НКИД, лишь поддержали предложения белорусского руководства. Реальная картина, как убедительно показал Ю.А. Борисёнок, складывалась «с точностью до наоборот», поскольку в действительности решающую роль в территориальном расширении БССР в середине 1920-х годов сыграла комиссия политбюро ЦК РКП(б) по работе среди белорусов Польши (С.134-135). Это служит дополнительным подтверждением всех выводов по поводу причин и характера белорусской политики Москвы, сделанных авторов ранее. Своего рода подведением итога польско-русского противоборства в белорусском вопросе в межвоенный период могут служить слова белорусского историка А. Пашкевича, с которыми в полной мере солидаризируется и Ю.А. Борисёнок: «Полная бездеятельность польского правительства в сфере национальной политики вплоть до 1924 г. привела к утрате им инициативы в этом вопросе. Эту инициативу перехватили коммунистические власти соседнего СССР, которые, в отличие от поляков, методично и последовательно работали как с населением Западной Беларуси, так и с его политической элитой… Фактически польское правительство проиграло необъявленную войну за души западных белорусов большевистским властям из Москвы и Минска». [16]
В этой связи стоит заметить, что осознание пагубности национальной политики Варшавы было характерно и для некоторых трезвомыслящих польских деятелей межвоенного периода, остро чувствовавших потенциально опасные последствия политики белорусизации в БССР для Второй Речи Посполитой. Так, в октябре 1926 г. виленский «Курьер Виленьски» самокритично признавал, что в белорусском вопросе «политика Советской России является гораздо мудрее польской. Самым решительным образом Россия задушила попытки создания каких-либо белорусских политических партий…, но взамен этого дала широкие возможности для культурной работы, открыла Белорусский университет, организовала Институт белорусской культуры, …образовала целую сеть низших школ. Ряд бывших противников коммунизма нашел в Советской Беларуси применение своим силам…». [17] Впрочем, данной категории белорусских национальных деятелей, как отмечает Ю.А. Борисёнок, Сталиным с самого начала была уготована малопочтенная роль «временных попутчиков» и «расходного материала»…
***
Выбранный автором жанр исторических очерков полностью себя оправдал. Ю.А. Борисёнку удалось создать яркий, убедительный, интригующий и временами несколько ироничный портрет «крутых поворотов» белорусской истории. Одним из важных преимуществ данного портрета является свежий и нетрадиционный ракурс рассмотрения многих проблем в широком региональном и общеславянском контексте. Отрадно, что в полной мере соблюден и принцип, начертанный на обложке книги под портретом древнегреческой музы истории Клио: «первое правило истории – не допускать лжи». Соблюдением данного принципа, увы, могут похвастаться далеко не все представители постсоветских историографий…
Монография «На крутых поворотах белорусской истории» представляет собой серьезный вклад в развитие отечественного белорусоведения, все еще находящегося в стадии становления, в известной степени предопределяя целый ряд перспективных направлений дальнейших исследований. В частности, автором намечен основательный смысловой каркас и узловые проблемы исследования феномена советской белорусизации. Остается надеяться, что данный труд станет мощным катализатором дальнейших изысканий по белорусской истории.
Полностью текст рецензии выйдет в свет в издании: Русский Сборник. Т.XVIII. М., 2015.
[1] Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003. С. 124.
[2] Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986. P. 192.
[3] Загорульский Э.М. Белая Русь с середины I тысячелетия до середины XIII века. Минск: Издательство «Четыре четверти», 2014. С. 11.
[4] Марзалюк I. Традыцыйная гiстарычная iдэнтычнасць палоналiтвiнскай шляхты ў першай палове XIX ст. // Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания в контексте обеспечения национальной безопасности. Минск: ВА РБ, 2014. С. 144.
[5] Там же. С. 145.
[6] Там же. С. 144-145.
[7] Латышонак А.Ю. Беларускае пытанне ў паўстаннi 1863 г. // Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания в контексте обеспечения национальной безопасности. Минск, 2014. С. 143.
[8] См. напр.: Канфесii на Беларусi (канец XVIII – XX ст). Мiнск, 1998. С. 127.
[9] Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Том 5. Мiнск, 1999. С. 448-450.
[10] Восстание 1863 года. Материалы и документы. Восстание в Литве и Белоруссии 1863-1864 гг. М., 1965. С. 29.
[11] Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 4п. Оп. 1. Д. 5068. Л. 163.
[12] Там же.
[13] НАРБ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 177. Л. 32.
[14] НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 4713. Л. 99.
[15] Там же. Л. 99-100.
[16] Там же. С. 161.
[17] Kurier Wileński. 13.X.1926. № 237.

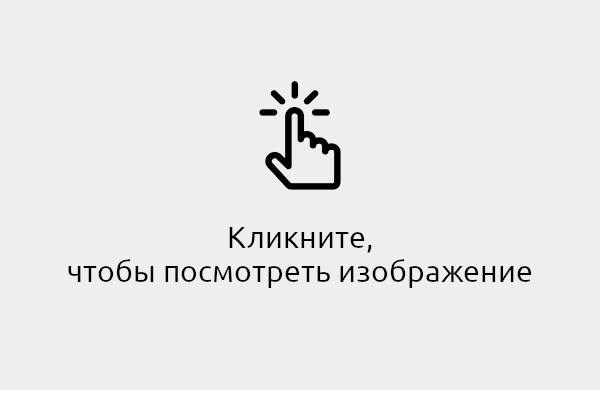
Комментарии читателей (0):