Мерецков готовил третье наступление на Карельском перешейке, а тем временем финны решили перехватить инициативу и начать контрнаступление. Оно началось 23 декабря, но не привело к каким-либо успехам. Встречные бои были короткими и закончились через пару дней. Гораздо более успешными были действия противника в Карелии, к северу от Ладожского озера. Невозможность проведения непрерывной линии фронта облегчала противнику, который, как правило, был хорошо знаком с местными условиями, проникновение в тыл Красной Армии. Растянувшиеся в лесах и озерно-болотных дефиле колонны советских войск лишились возможности маневра и стали жертвой фланговых ударов финнов, активно использовавших подвижные отряды лыжников, вооруженных пистолетами-пулеметами Suomi и ручными пулеметами разных моделей. Большие потери Красной армии наносили и снайперы противника.
В боях сказывался и недостаток в Красной Армии автоматического оружия, отсутствие пистолетов-пулеметов, неудобство имевшихся ручных пулеметов для действий зимой. Уже в ходе войны Сталин поставил перед наркомом вооружения Б.Л. Ванниковым вопрос о возможности производства Suomi на советских заводах. Тот рекомендовал сосредоточиться на производстве отечественных автоматов и в конечном итоге эта точка зрения победила. Но на эту войну новые пистолеты-пулеметы опоздали. В целом неудачно действовали и корабли Балтийского флота — реализовать объявленную блокаду им так и не удалось. В районе Ботнического залива она осуществлялась только подводными лодками. Подступы к Хельсинки контролировала и морская авиация. Тем не менее линейные корабли эффективно подавили береговые батареи противника, подводники потопили четыре финских транспорта.
Финнам удалось окружить и уничтожить в образовавшихся «котлах» (они называли их motti) ряд советских частей. Для улучшения управления войсками было принято решение направить на фронт группу офицеров, учившихся в Академии Генерального штаба. Один из них подполковник М.С. Штеменко вспоминал: «Надо прямо сказать, что в то время наши войска оказались малоприспособленными вести войну в условиях Финского театра. Леса и озера, бездорожье и снега были для них серьезным препятствием. Очень тяжело пришлось, в частности, 44-й стрелковой дивизии, которая прибыла с Украины и сразу же под Суомуссалми попала в окружение». Она понесла серьезное поражение. Начальник Особого отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР старший майор государственной безопасности В.М. Бочков докладывал, что к 8 января из окружения вышло около 1800 чел. с 3 орудиями. От трех полков остались группы неорганизованных людей, не считая артиллерийского полка, батальона и тыловых частей, избежавших окружения. По распоряжению Мехлиса все командование дивизии было сурово наказано. 11 января бывший командир дивизии комбриг А.И. Виноградов, бывший начальник штаба полковник О.И. Волков и бывший начальник политотдела дивизии полковой комиссар И.Т. Пахоменко, покинувшие дивизию во время боя, были расстреляны перед строем бойцов. Те аплодировали. К смертной казни были также приговорены еще несколько офицеров.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
Война затягивалась, положение становилось настолько тяжелым, что властям стало ясно, что более не удастся ограничиваться скупыми сводками с фронта. 14 января последовало опровержение штаба ЛВО сообщений иностранной прессы о том, что финны перешли в контрнаступление и заняли часть советской территории. 23 декабря 1939 года противник действительно попытался нанести контрудар силами пяти дивизий, но он провалился. Наступление велось на достаточно узком фронте – всего 5 километров – без координации и при слабой поддержке артиллерии. Армия делала все возможное для преодоления кризиса. Маннергейм очень высоко оценил роль, которую сыграли политруки Красной армии в тяжелые дни неудач, хвалил мужество и стойкость солдата, но командованию, по его мнению, явно не хватало самостоятельности и гибкости. В Москву был вызван Мерецков. Сталин был недоволен — неудачи в действиях против столь слабого противника, по его словам, будут вдохновлять врагов СССР на действия. Необходимо было действовать, нужны были успехи.
7 января 1940 года был создан Северо-Западный фронт. Его возглавил Тимошенко, переведенный сюда из Киевского Особого Военного округа. Главные армии фронта — 7-я и 13-я состояли из пяти и трех стрелковых корпусов. Началась активная подготовка к боям по преодолению линии обороны противника. Пехота тренировалась двигаться за танками, преодолевать минные и проволочные заграждения и т.п. 17 января 1940 года было принято решение о формировании добровольческих лыжных батальонов – всего их было сформировано 7 по 900 в каждом. Для уверенного контроля над тылом и борьбы с диверсионными группами финнов было сформировано 7 пограничных стрелковых полков по 1,5 тыс. чел в каждом. Они начали борьбу с лыжниками противника — период успешных действий для тех закончился.
Посредником между советским полпредом и правительством Финляндии выступила финская писательница эстонского происхождения Хелла Вуолийоки, поддерживавшая дружеские отношений с Коллонтай, и пользовавшаяся в известной степени доверием Рюти и Таннера. Вуолийоки имела репутацию «красной» и явно не испытывала симпатий к нацистам. Еще в начале 1930-х годов она организовала в Хельсинки литературно-политический салон левого толка. Перед Рождеством 1939 года Вуолийоки обратилась к Таннеру с письмом, призывая задуматься о необходимости начала переговоров с Москвой и предлагая для первых контактов свою кандидатуру: «Принимая во внимание, что я всегда могу приватно побеседовать с Коллонтай, и есть надежда, что она нам, возможно, что-нибудь сможет посоветовать. Кроме того, я человек, к которому они относятся с некоторым дружелюбием, — я полагаю, что они могут согласиться разговаривать со мной в частном порядке. Если вы сочтете это необходимым, то я направлюсь в Стокгольм или куда угодно».
С 21 января в Стокгольме начались первые контакты относительно условий возможного мира. 27 января Молотов телеграфировал в Стокгольм о согласии в принципе иметь дело с правительством Рюти-Таннера. 29 января В Хельсинки через посредников был получен ответ советского полпреда — А.М. Коллонтай подтвердила готовность иметь дело с новым правительством, но прежде всего интересовалась его готовностью идти на уступки. Она предупредила — в случае отсутствия приемлемых для Москвы условий разговор будет бессмысленным. Как и ожидала Вуолийоки, встречи с Коллонтай были действительно сердечными и доверительными, и именно они позволили перейти к новому уровню советско-финляндских контактов. 5 февраля на встрече с советским полпредом Таннер изложил финскую программу, которая фактически сводилась только к уступке одного острова. По требованиям на перешейке и Ханко позиция финнов не изменилась. 6 февраля Москва известила об отказе принять эту программу. 7 февраля Маннергейм предупредил — хотя финская армия пока что держится неплохо, необходимо рассмотреть возможность замирения путем уступок.
Тем временем РККА готовилась к штурму финских укреплений. Постоянные тренировки доводили действия пехоты до автоматизма, каждый знал свое место в атаке. Артиллеристы наметили и пристреляли цели, график артиллерийского огня был установлен с точностью до минуты. Танковые части были усилены хорошо проявившими себя в борьбе с укреплениями противника химическими (т.е. огнеметными) танками. На 30 ноября 1939 г. в войсках числилось 208 ХТ-26 и ХТ-130. В ходе войны было потеряно 124 таких танка (из них 24 безвозвратно, но общее количество химических танков в армиях выросло до 446. 11 февраля Красная армия начала успешное наступление на перешейке. Под прикрытием артиллерийского огня к финским позициям подошли танки, саперы обеспечили безопасные проходы. Танки били по амбразурам укреплений противника, обеспечивая продвижение штурмовых групп. Те взрывали ДОТы противника. Затем начинала действовать пехота. Она шла под прикрытием огневого вала снарядов своей артиллерии. Уже в первый день наступления финны начали отходить.
Поначалу оперативные сводки были довольно сдержанны — они сообщали только об успешных поисках разведчиков, взятии 16 укрепленных пунктов, 8 из которых — железобетонные артиллерийские сооружения. 18 февраля впервые после начала декабря газеты опубликовали новости в бравурном тоне: противник отходит, сжигая за собой деревни, победоносная армия движется на Выборг. С 11 по 18 февраля было взято 475 укрепленных пунктов противника, из них — 92 железобетонных артиллерийских сооружения. Начались сообщения об успешной боевой работе советских саперов. Передовица «Красной звезды» призывала укреплять взаимодействие родов войск при наступлении. К 23 февраля 1940 года стране продемонстрировали достижения её армии: «Англо-французские империалисты двадцать лет громоздили горючий материал на северо-западной границе СССР, на подступах к городу Ленина, и сейчас руками маннергеймовских банд пытаются зажечь пламя войны на севере Европы. Но доблестные части Ленинградского военного округа, выполняя приказ Советского правительства, ударили по грязным рукам англо-французских наемников. Жестокая зима и природные препятствия, коварство врага и железобетонные укрепления — ничто не может остановить наступательного порыва красных бойцов! В день славного юбилея своей армии весь советский народ единодушно провозглашает славу героям борьбы с финской белогвардейщиной, которые, не щадя своей крови и самой жизни, с честью выполняют военную присягу на верность Родине!»
После прорыва «линии Маннергейма» начались прямые контакты Хельсинки и Москвы. Чем явнее становился успех наступления Красной армии, тем более жесткими становились требования Москвы. 20 февраля Молотов встретился с новым посланником Швеции в СССР Вильгельмом Ассарсоном. Глава Советского правительства был категоричен: теперь и речи не могло быть об уступке части Карельского перешейка — Финляндии придется уступить его весь, вместе с городами Выборг и Сортавала; Ханко с прилегающими островами должен был быть сдан в аренду. Советское правительство было готово вернуть Петсамо. 23 февраля 1940 г., по словам Паасикиви, правительство уже понимало – все, или почти все кончено: «Депрессия была велика. Больше не верили в победу.» 27 февраля Таннер заявил о готовности уступить Карельский перешеек и сдать в аренду Ханко, но Выборг и Сортавала еще не были взяты Красной армией и министр категорически отказывался рассматривать возможность их уступки.
Тем временем положение на фронте стало настолько тяжелым, что финское командование решило использовать для контратаки свои танки. Исход этой попытки был предсказуем — финская танковая группа 26 февраля была разгромлена советскими танкистами, подбившими шесть финских танков. Все говорило о том, что начался перелом. Впрочем он не привел к обрушению обороны финнов. Только 28 февраля Красная армия подошла к Выборгу на 6 километров. Тимошенко готовил новое наступление, он планировал взять Выборг 7 марта, но прямые подступы к городу были сделаны практически неприступными. Он был превращен в серьезный узел обороны. Подходы прикрывали многочисленные укрепления, юго-восточная часть города была разрушена для расчистки секторов стрельбы, все мосты через реки и Саймаанский канал взорваны. Сам канал финны использовали для затопления подступов к городу — образовалось препятствие длиной до 30 и шириной доходившей в некоторых местах до 6 километров. Пространство над ледяной водой простреливалось из укреплений противника.
Наступление попытались провести в узком месте запруды, где ширина достигала 300 метров. Движение вперед через водяное препятствие глубиной минимум до полуметра под шквальным огнем противника сопровождалось большими потерями. Только поле разрушения ДЗОТов тяжелой артиллерией возможен был выход на вражеский берег. 2 марта была взята южная часть Выборга и его железнодорожный вокзал, город начали обходить с севера и юга. Было принято решение обойти позиции финнов по льду Выборгского залива, в начале марта был захвачен ряд островов, а 6 марта 70-я стрелковая дивизия комдива М.П. Кирпоноса обошла по льду город и перерезала шоссе и железную дорогу Выборг-Хельсинки на значительном пространстве. Контратаки финнов дивизия отразила успешно.
Обход по льду Выборгского залива оказался для финнов внезапным, командование известило Хельсинки о том, что армия самостоятельно не сможет продержаться долгое время. Необходима была помощь извне. 4 марта Ассарсон передал Молотову согласие финнов на все требования, кроме Выборга и Сортавалы. Это предложение не было принято. Из уважения «к миролюбивой политике шведского правительства я могу подождать еще несколько дней…», успокоил собеседника Наркоминдел, но при этом намекнул, что далее могут последовать совсем другие события. В 22:35 следующего дня Ассарсон прибыл с новостью — финны согласны на все. В тот же день Финляндия и СССР обменялись «Памятными записками». Хельсинки предлагал перемирие на основе status quo и ожидал, что Москва сообщит время и место начала переговоров. Советская сторона фиксировала согласие на требования в отношении уступок территорий и аренды Ханко, местом для переговоров была названа Москва. 7 марта финская делегация во главе с Рюти вылетела в Москву.
Сами переговоры начались 8 марта. Рюти зачитал на русском языке декларацию, в которой говорилось о желании жить в мире с великим соседом. Финляндская делегация призывала к сдержанности в требованиях, которые «являются, по нашему мнению, слишком тяжелыми и оставили бы в сердце финского народа глубокую рану, имея, вместе с тем, самое неблагоприятное влияние на экономическую жизнь Финляндии». В ответ Молотов заявил, что Советский Союз пытался добиться решения спорных вопросов путем переговоров и не виноват в том, что была пролита кровь. Теперь же ситуация изменилась, и односторонняя коррекция границ стала неизбежной. Молотов ясно дал понять – время разговоров о территориальной компенсации прошло, речи о ней после начала войны не могло быть. Не получился разговор и о финансовых компенсациях. Паасиикиви сослался на Ништадский договор 1721 года, когда Петр Великий выплатил Швеции большую компенсацию за уступленные территории. Молотов ответил: «Напишите Петру Великому. Если он прикажет, мы выплатим компенсацию.»
С самого начала было ясно, что Хельсинки придется пойти на уступки. Тем не менее финны отказались от продажи Ханко и настояли на увеличении арендных выплат за использование полуострова с 5 до 8 млн. финских марок. Впрочем, советская сторона была податливой только до этой суммы. Делегация пыталась отстоять правоту действий руководства своей страны, но Молотов предельно ясно описал ситуацию: «Возможно, Финляндия не планировала и не заключала прямых договоров с крупными державами. Однако политика правительства Финляндии была настолько схожа и настолько точно двигалась в одном направлении с политикой нескольких крупных держав, что Финляндии была с ними в одной линии. Нам, в свою очередь, ничего не нужно от Финляндии, ни её лесов, ни земель, ни населения. Но нам нужно обезопасить Ленинград, Мурманскую железную дорогу и сам Мурманск — наш единственный океанский порт».
Первое сообщение о начавшихся переговорах было опубликовано 11 марта. В это день был окружен Выборг, советские войска заняли уже восточную и северную его части. Основная линия укреплений оборонявшихся была прорвана. Перед финским командованием возникала угроза маневренной войны — безнадежной для финской армии. Вечером 11 марта делегация получила телеграмму из Хельсинки: «Положение на фронте очень серьезно. Продолжение военных действий ведет к дальнейшему ухудшению ситуации. Сдача Выборга – вопрос нескольких дней. Нельзя гарантировать успешную оборону в течение месяца, а предложенная помощи может поступить только через пять недель с условием, что будет получено разрешение на проход войск. Если это не получится, то встанет вопрос о более жестких условиях и потере большей территории.» В итоге вопрос решился просто – Молотов потребовал ясного ответа на требования советской стороны, а из Хельсинки финская делегация получила телеграмму с сообщением – дальше сопротивляться страна не сможет, даже и с обещанной помощью. Телеграмма заканчивалась ясно: «Перемирие необходимо немедленно.»
12 марта 1940 г. в Москве был подписан советско-финляндский мирный договор. Военные действия немедленно прекращались (Ст. 1), Финляндия уступала СССР весь Карельский перешеек с прилегающими к его побережью островами, города Виипури (Выборг), Кексгольм (Приозерск), Сортавала, Суоярви, части полуостровов Рыбачий и Средний (Ст. 2), впредь стороны обязались воздерживаться от нападения друг на друга (Ст. 3). Финляндия передавала в аренду СССР полуостров Ханко с прилегающей акваторией и островами, стоимость аренды составляла 8 млн. финских марок в год. Передача Ханко должна была быть проведена в 10-дневный срок (Ст. 4). СССР возвращал Финляндии Петсамо, но при этом Хельсинки соглашался на ограничение своих военно-морских сил. Позволялось иметь не более 15 вооруженных судов водоизмещением не более 400 тонн каждое, подводные лодки попадали под запрет, как и наземные военно-морские сооружения (Ст. 5). Финляндия предоставляла право свободного транзита советских товаров и переезда советских граждан через свою территорию в Норвегию (Ст. 6) и Швецию (Ст. 7).
По Протоколу, прилагавшемуся к этому соглашению, военные действия прекращались 13 марта в 12:00 по ленинградскому времени. 15 марта в 10:00 финские войска должны были начать отход на новую линию границы, проходя в день не менее 7 километров, и разместиться на расстоянии не менее 7 километров от новой границы. На разных участках предполагалось завершить отвод в промежуток с 19 по 26 марта. Советские войска должны были эвакуировать Петсамо к 10 апреля. К 7:00 13 марта закончились бои в Выборге. Город был взят Красной армией. К 12:00, согласно условиям перемирия, и на этом направлении установилось затишье. На самом деле финны находились за замком, в непосредственной близости от города. 15 марта было заключено соглашение о сдаче ими позиций и начале отхода вглубь финской территории. Паасикиви подвел итоги переговорам: «Советская сторона не отошла от своих требований.»
В ходе боев советско-финляндской войны было захвачено 285 железобетонных и 2026 деревянно-каменных и деревянно-земляных укреплений, не считая пулеметных и орудийных гнезд, окопов и т.п. Потери были большими. С 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 г. на Карельском перешейке было потеряно 3178 танков, 1903 из них составили боевые потери. Было убито и умерло от ран при эвакуации 71 214 чел., умерло в госпиталях 16 292 чел., пропало без вести 39 369 чел. — общие безвозвратные потери составили, таким образом, 126 875 чел. Потери финской армии составили 48 243 чел. убитыми и приблизительно 43 тыс. чел ранеными. По результатам войны было сделано множество выводов – от введения в мае 1940 г. нового головного убора – шапки-ушанки, до спешной разработки автоматического стрелкового оружия. 21 февраля 1940 г. – на вооружение был принят пистолет-пулемет Дегтярева (ППД), 21 декабря 1940 года пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).
Передовица «Правды» оценила советско-финляндский договор следующим образом: «Советский народ достиг того, чего он хотел. Он обязан в этом своей героической Красной Армии, память о подвигах которой будет вечно жить в советском народе. Он обязан этим мудрой и твердой политике своего правительства, которое никогда не поступится интересами советского народа и сумеет настоять на своем для мира, безопасности и покоя советской страны». В таком же стиле реагировали «Известия»: «Мудрая, мирная политика СССР, опирающаяся на несокрушимую мощь нашей славной Красной армии и Военно-Морского флота, выбила пылающий факел из рук поджигателей войны. Подписанный 12 марта мирный договор между Советским Союзом и Финляндией наносит сокрушительный удар далеко шедшим планам поджигателей войны на севере Европы».
Итак, Финляндия вынуждена была обратиться к СССР с предложением о мире. Надежды на помощь из-за рубежа не было, что было отмечено и в приказе Маннергейма по армии, а также в обращении главы МИД Таннера к гражданам страны, и главы правительства Рюти — к Сенату. Новости из Финляндии ускорили завершение правительственного кризиса во Франции. В ночь с 19 на 20 марта на заседании Секретного комитета судьба кабинета Даладье была решена. На премьера обрушились с критикой сторонники немедленного нападения на Советский Союз. Пьер Фланден, выступая с обвинительной речью, завершил её словами: «На деле вы не хотите порвать с Советской Россией… Вы потеряли поддержку всех тех сил в мире, которые, несмотря ни на что, считают большевизм главным врагом!»
В тот же день правительство фактически получило вотум недоверия в Палате представителей – 239 голосов против 1 при 300 воздержавшихся. За преемника Даладье – Поля Рейно – проголосовало 534 депутата, за самого «воклюзского быка» не проголосовал никто. Вскоре выяснилось, что это было голосованием «против», а не «за». У нового правительства не было прочной опоры в парламенте. Правительственное большинство было незначительным. Рейно усиливал его популярными среди депутатов мерами. Уже 26 марта он потребовал отзыва советского посла из Франции. На следующий день Суриц покинул Париж. 28 марта французские корабли перехватили и отконвоировали в Сайгон и Хайфон советские торговые суда – «Селенга» и «Владимир Маяковский».
Уступки Хельсинки были весьма значительными, Финляндия потеряла территории, ресурсы которых составляли около 15% благосостояния страны, число беженцев составило до 400 тыс. чел. В своем выступлении на Шестой сессии Верховного Совета Молотов обрисовал случившееся как этап борьбы против созданного империалистами плацдарма для нападения на СССР. 31 марта 1940 г. Карельская АССР была преобразована в новую союзную республику — Карело-Финскую. Большая часть приобретенных территорий была включена в состав КФССР. Её и возглавил Куусинен. Все эти преобразования для Хельсинки были недвусмысленным намеком на то, что в Москве не отказались от старых планов решения финского вопроса.

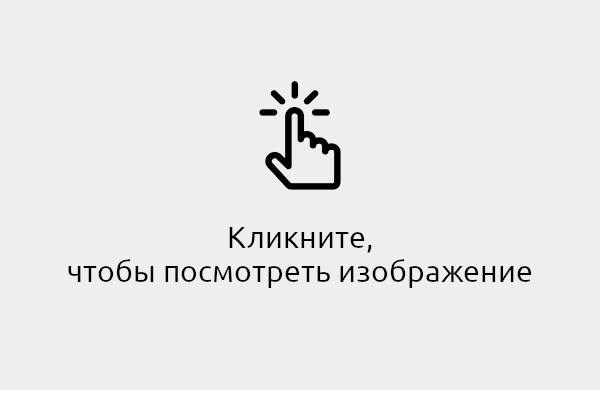
Комментарии читателей (0):