История в наши дни привлекает много внимания. Бойкие на язык публицисты легко рубят сплеча, извещая нас об извечной вражде Запада к России, якобы неизменно существовавшей двести, пятьсот и тысячу лет назад. Так понятая история кажется полем идейной борьбы за умы нашей молодежи, линией идеологического фронта. Профессиональные историки в таких разговорах участвуют неохотно, чему есть ряд объяснений. Два из них я бы назвал главными препятствиями на пути коммуникации между исторической наукой и обществом.
Наука и ученые пользуются у нас достаточным авторитетом. Общество готово услышать историков и поверить им, даже если те возьмутся утверждать что-то совершенно неожиданное. В содержательном плане у них карт-бланш. Но к форме такого высказывания есть строжайшие требования, а именно историк обязан выразить свою мысль — желательно одну — уверенно и ясно.
Это требование противоречит сути исторического знания. Старый немецкий литературовед Эрих Ауэрбах некогда замечал, что любой человек безошибочно отличит историю от вымышленного рассказа. Автору вымышленного повествования не придет в голову тратить время на лишние подробности, не имеющие отношения к сюжетной линии и служащие ей. История как правдивый отчет о реально имевших место событиях — принципиально другая изобразительная форма. Случающегося всегда бывает слишком много, человеческая осведомленность — ограниченна, внутренние связи происходящего — не до конца ясны. Оттого речь нормального историка пестрит словами неуверенного человека, дескать, «может быть», «как нам кажется» и т.д. Такая речь — слишком длинная, вязнущая в подробностях и неожиданных отступлениях, уводящих подчас далеко в стороны от начатого разговора, требующая от слушателя удерживать в фокусе внимания одновременно многие вещи — нарушает привычные правила коммуникации. Желающий сообщить что-то и быть услышанным так разговаривать не должен. Но историки именно так и разговаривают и иначе не могут.
Другое препятствие для диалога историков с обществом — научный, исследовательский характер их деятельности. История не знаточество, а самая обычная наука, построенная на эксперименте, которым в ее случае является работа с историческими источниками. Раньше говорили, что существуют «физики» и «лирики», науки «точные» и «гуманитарные». Это устаревшие сведения. История как наука несопоставимо «точнее» современной физики, которая давно потеряла возможность наблюдать свои объекты и судит о них сугубо гипотетически по следам и производимым эффектам. Тут и там знания частичны. Историки не в силах предъявить теории истории и не могут много чего другого. Но разве физики могут предъявить теорию физики?
Научное открытие по своей сути противоположно готовому знанию. Оно его отрицает. Талант человека, посвятившего себя науке, — это дар спотыкаться на ровном месте, где до тебя ходили толпы народа и всех все устраивало. Профессия исследователя состоит в критике знания, а не накоплении его. Такой навык является полной противоположностью тому, что общество от историка зачастую ждет. Можно понять запрос некоторых людей на некую устойчивую картину отечественной истории в ее ключевых событиях, способную сплачивать людей и поколения, доказывая что-то или как-то иначе действуя на умы. В глазах историка это утопия, иметь такую картину нельзя.
* * *
Как тут быть? Если историки хотят послужить не только науке, но и своим согражданам, то обязаны навязать разговор в той форме, которая отвечает их профессии, пригласить интересующихся историей на свою территорию и разделить с ними собственный исследовательский опыт, свои описания и открытия. Вероятно, в этом и состоит их общественное призвание. Ибо история несравненно интереснее и значительнее тех простых истин, которых от нее ждут. Цицерон называл ее «учительницей жизни». Эта мысль ценилась веками и кажется неглупой сегодня.
Как все-таки обстояло дело с нелюбовью к России и русским людям со стороны Запада пять веков назад? Станем мало-помалу разбираться в присущей историку манере, а именно брать известные факты, которые могут иметь отношение к делу, и внимательно их исследовать. Здесь первое, что приходит на ум, — хрестоматийная картина «Оршанского триумфа». Осенью 1514 года войска московского правителя Василия III, только что одержавшие грандиозную победу, а именно овладевшие Смоленском, неожиданно были наголову разбиты польско-литовской армией в сражении под Оршей. Как реагировали на это в Риме, религиозном центре тогда еще единого католического Запада? По распоряжению Святого престола в Риме одним из кардиналов был отслужен благодарственный молебен в честь победы над русскими «схизматиками», а несколько месяцев спустя там же увидела свет книга поистине удивительного содержания. Ее составителем являлся польский посол в Риме Ян Лаский. Это был сборник стихотворных панегириков на общепонятном тогда в Европе латинском языке, славящих польскую победу под Оршей и превозносящих роль Польши как защитницы Запада. По словам одного из польских поэтов Б. Ваповского, победа под Оршей сорвала планы московского правителя, который намеревался завоевать всю Европу до Испании и Рима, и этот успех польского оружия якобы уже привел к введению католичества в Московском государстве и его подчинению папе Римскому. Эти подробности кажутся яркой иллюстрацией неприятия России в Западной Европе пятьсот лет назад.
Но только на первый взгляд. Считать православных христианами Запад не отказывался. Попытки польского двора после Орши расчеловечить «московитов», приравнять их к дикарям Нового Света натолкнулись в Европе на стену непонимания и прямого противодействия. С известием о победе в Венецию и Рим польский король Сигизмунд Старый отправил «одного из своих капитанов, участвовавших в сражении с московитами», Николая Вольского. Со слов последнего, записанных в Венеции, мы узнаем, что тому было поручено доставить в Италию взятых под Оршей русских пленников: «двое на своих собственных лошадях» предназначались в подарок венецианскому дожу, четверо папе Льву X, и еще двое al magnifico Juliano, то есть, по всей вероятности, влиятельному кардиналу Джулио Медичи, будущему папе Клименту VII. Не потерпев такого обращения с христианами, германский император Максимилиан I отобрал пленников у польского посла, когда тот проезжал через его владения, и окружным путем через Данию отправил их домой в Московское государство.
Что касается той самой мессы по поводу польской победы при Орше, тут не грех помнить некоторые обстоятельства. Почти одновременно с известиями о кровопролитном сражении под Оршей Рима достигло сообщение о победе турецкой армии Селима I над персидским шахом Исмаилом в Чалдыранской битве. Новость о победе турок над персами возымела в Риме эффект разорвавшейся бомбы. В глазах современников это было событие, сравнимое с паданием Константинополя. Многим на минуту показалось, что, расправившись со своим врагом на Востоке, турки всей своей непобедимой мощью теперь непременно обрушатся на неспособных защитить себя христиан. Заискивающие торжества в Риме, славящие польское оружие, очевидно, стоит понимать в связи с той истеричной атмосферой, которая воцарилась в Вечном городе после страшных известий о Чалдыранской битве.
Потом при папском дворе об этой злополучной мессе еще не раз пожалеют, опасаясь, что слух о ней дойдет до Москвы. Правилом в Риме являлось другое отношение к польской силе, а именно сомнение в ней. Буквально накануне Оршанской битвы польский король предпринял попытку обратиться к папе с просьбой подчинить ему силы крестоносцев в новом походе против турок. По словам итальянского исследователя А. Тамборра, польского посла выслушали в Риме «в некотором недоумении, если не сказать, с недоверием».
Как известно, Польша с тех пор только укрепилась в мысли о себе как о «передовом бастионе» (antemurale) и спасительнице христианского мира перед лицом неминуемой агрессии со стороны иноверцев — турок и «московитов». Эта красивая фантазия со времен сражения под Оршей буквально стала частью польской идеологии. Однако спросим себя, кто в Риме, Италии, Европе мог в этот образ всерьез поверить? Образованное общество Италии, кому по идее до этого могло быть дело, долго молчало. Потом — прыснуло со смеху. Считается, что первым откликом на польский образ antemurale в Италии было замечание Макиавелли в его сочинении «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» (это сочинение было опубликовано только 1531 году, хотя окончено двенадцатью годами раньше). Смысл этого высказывания Макиавелли — злая насмешка над пустым бахвальством самозваных защитников.
* * *
Упомянутый поэтический сборник, громко славящий польскую победу, составленный и изданный в Риме польским резидентом Яном Ласким, остается понимать как отчаянную и безуспешную попытку докричаться до глухих. Есть любопытное письмо Яна Лаского, написанное незадолго до этого и адресованное двум краковским интеллектуалам. По словам автора этого горького письма, антипольские настроения широко распространены в Риме, и они имеют понятный источник. Взгляды, унижающие Польшу, изложены в ученых трудах итальянского гуманиста Пикколомини — ставшего затем папой Римский Пием II: «Этот писатель совершенно несправедливо и безбожно хулит и ни во что не ставит Королевство Польское». Изложенные им превратные мнения затем повторил другой прославленный гуманист Сабеллико. И никто из авторов польского происхождения, сетует Лаский, до сих пор не затеял с ними научный спор и не встал на защиту своей страны.
Образ Польши в латинской литературе около этого времени был, безусловно, таким, как о нем отзывается Лаский. Основы были заложены папой Пикколомини, и хорошего в них было мало. Другие «писали, как он» (scripserunt hii, sicut a Pijo habuere). Ключевым вопросом для польской короны являлись ее отношения с Тевтонским орденом с центром в Пруссии, не желавшим признавать над собой польской власти. При этом в Италии на военное противостояние Польши с Орденом смотрели плохо. Тевтонские рыцари считались главными героями продвижения христианства среди прибалтийских язычников. Описывая борьбу Ордена с поляками и литовцами, Пикколомини не скрывает своих симпатий. Существовали сомнения в военной состоятельности польского государства. На него все еще бросало тень поражение христиан в битве с турками при Варне в 1444 году. Пикколомини судит об этом строго: польский и венгерский король Владислав, бывший во главе христианской армии, из-за своего неумелого руководство стал причиной поражения, которое предопределило судьбу Балкан и вскоре привело к падению Константинополя. Польша — «за исключением Кракова» — по сравнению с Западом показана у Пикколомини отсталой, а обычаи литовцев — просто варварскими, заставляющими сомневаться в искренности их обращения в христианство. И это было то, что думали о Польше и ее претензиях в Римской курии.
Один современный историк обращает внимание на тот факт, что Польско-литовское и Московское государства западные наблюдатели могли временами различать и противопоставлять, а временами рассматривать вместе как некое географическое и культурное целое. Иной раз весь этот регион Восточной Европы красиво именуется «европейскими Индиями». Там, дескать, процветают одни и те же нравы, носят одинаковые одежды, много сходства в способах ведения войны и многом другом. Две эти умственные схемы только нам кажутся взаимоисключающими. На практике они легко уживаются в одном тексте, и в ход пускается то одна, то другая.
Западноевропейская литература о Московском государстве в это время делает первые шаги, и ей еще элементарно не хватает образов. В самом деле, как описать то, что до сих пор никто толком не описывал? Давно рассказывались истории о легендарном русском холоде и о чем-то подобном, однако настоящих определений страны явно было мало. Ответом на эту потребность было перенесение картин, до того представлявших другие страны и народы. В частности, в ход шли картины востока Европы — Польши, а еще больше Литвы. Те не самые лестные образы, которые раньше характеризовали эти территории на краю света, механически смещаются еще восточнее, на Русь. Таковы, к примеру, описания хозяйственного уклада Московской Руси, появляющиеся около того времени, например, у итальянского писателя Паоло Джовио: рисуя жизнь если не дикую, то варварскую, они в точности повторяют сказанное Пикколомини, а за ним Сабеллико по поводу Литвы.
Особый интерес представляет распространение стереотипа тиранического правления как коренной особенности Русского государства. Сабеллико писал о московской власти еще не так, а именно он отмечал якобы имевшее место неприятие жителями страны царского титула и ответное стремление московского государя не выделяться из толпы, а быть как все. В глазах Сабеллико и его предшественника папы Пия II воплощением восточноевропейской тирании служит литовский изверг, «кровавый палач» Витовт, «убивший многих в шутку» (multos quoque per ludum interemit sanguinarius carnifex). Именно этот литературный герой Пикколомини и Сабеллико предстает прообразом московских «тиранов», выведенных на страницы книг впоследствии. Расстреливать прохожих из лука, зашивать людей в медвежьи шкуры, чтобы потом травить собаками, или держать на такой случай голодных медведей первым стал не царь Иван Грозный, а за много десятилетий до него персонаж книг папы Пия II и Сабеллико литовский князь Витовт.
По словам папы Пикколомини, повторенным Сабеллико, перед Витовтом подданные до того трепетали, что по его приказу сами вешались. Я знаю два случая, когда этот сюжет попытались отнести к истории Московского государства. О том, что «московиты» сами лезут в петлю, когда им прикажут, писал уроженец Перуджи Риккардо Бартолини в 1515 году. Другая запись аналогичного содержания, относящаяся к 1518 году, была сделана в дневнике посла императора Максимилиана к Василию III Франческо да Колло. Собственными описаниями делились с «Московией» не только Польша и Литва. В просвещенном мнении интеллектуалов на одной доске с ними по степени дикости стоял другой регион востока Европы — Трансильвания. Я имею в виду рассказ о том, как некий государь, столкнувшись с непочтительным итальянским послом, велел прибить тому шляпу к голове железным гвоздем. Как известно, подлинный источник этой истории — предания о Дракуле. Швед Олаус Магнус был, кажется, первым, но далеко не последним западным автором, кто переместил ее действие в Московское государство.
* * *
И еще два слова по поводу европейского единства. Помним ли мы, где и как возникла эта идея? Мысль о единой Европе была впервые сформулирована в той самой книге папы Пикколомини, против которой ополчились обиженные поляки. Его помотало по свету. Он увидел воочию, как не похожи между собой отдельные страны Европы и как далеко иные или даже большинство из них могут отстоять от того идеала цивилизованной жизни, который был дорог гуманисту. Реальность заключалась в этой непреодолимой разности и сосредоточении подлинной культуры буквально в немногих точках, считаных городах. Общность судьбы столь разных, разъединенных и нередко враждующих между собой миров создавалась турецким нашествием, сулившим гибель христианству и европейской культуре. Картина христианской Европы папы Пикколомини однозначно включала также православный мир в силу величайшей ценности общего культурного наследия. Древняя Греция была для Пикколомини его неотъемлемой частью. По мысли замечательного итальянского гуманиста и папы Римского, наше европейское единство состоит не в том, что мы похожи или сильно любим друг друга, этого так раз близко нет, а в том, что нам всем вместе есть что хранить.

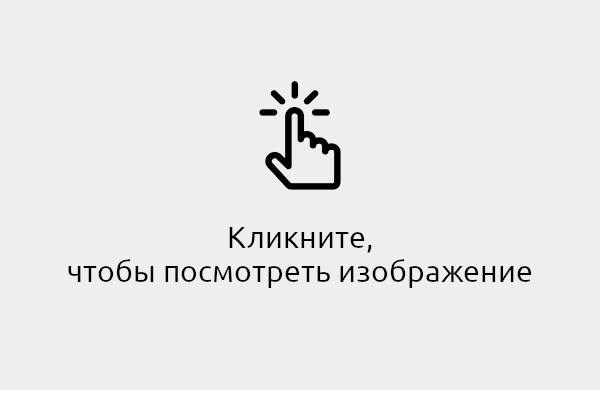

Комментарии читателей (0):