«О Сад, Сад…» (Хлебников)
1. Где живёт история?
Историк ведёт бесконечную борьбу против «Повести временных лет», то есть хронологии событий, диахронии нарратива, каковые для него — самый естественный продукт его науки и творчества. Борясь против линейного нарратива, историк описывает события в максимально посильном, широком горизонте, в их контексте. Но контекст неизбежно узок, ибо слаб человек, представляющий его себе. И фронт его сужается в стрельбище, где, кажется, должна быть цель. Но цели нет, и даже мишень не видна. Историк ищет последовательности событий на линии прямого выстрела — и не заботится о попадании в цель. Потому и летят его снаряды в разные стороны — туда, куда ведут его партийные эмоции.
Однако каждое случившееся в истории событие — это бесконечный океан связей и помышлений, контекстов, широта которого едва ли не равна длине всей человеческой истории. И только «энергия заблуждения» иногда спасает историка от неудачи — и из своей руды он в результате вынимает труды, учебники и университет. И они превращаются в нормативную «историческую память». И лживо-безмозглые парламентарии защищают её уголовным законом, словно сами владеют истиной, ремеслом и хотя бы азбучным знанием.
Но как же вернуться в первобытный контекст истории, пережив её лично, семейно, народно? Я скажу вам, как попытаться.
Впрочем, скажу лишь о самом простом — об исследовании личной истории и личной судьбе одного человека, о том простейшем событии, из которого вивисекторы вольны придумывать себе любую посильную полноту.

Николай II с иконой благословляет солдат, 1904-1905
2. Где живёт историческая память?
Утопия исследования личной судьбы состоит в постоянном сужении его предмета. Начинается оно с исследования социальной и культурной среды героя, с реконструкции языка этой среды, языка понятий и образов, на котором говорит человек со своими единомышленниками и своим временем, воспроизводя их картину мира.
Только сличение личного вклада героя в унаследованный им язык с этой картиной мира позволяет оценить меру уникальности его личности, меру собственной мысли того отдельного тростника, который составляет «мыслящий тростник» в целом. Его личные образы, его собственные сознание и язык рождаются только в отталкивании от языка его времени и среды: и, как правило, сохраняются нетленными с юности и до конца, лишь поворачиваясь на свет то одной, то другой стороной своей полноты. Но как понять способность речевого атома стать образом, вызывающим отклик в аудитории, чьё сознание и без того переполнено архитектурой унаследованных образов и хаосом индивидуальных воль, миллиардом попыток вольно или невольно переврать историю? Разве что в чужих отражениях-повторениях. Беда в том, что даже добросовестная и понимающая аудитория — сама творит свои языки и очень редко, смиряясь, транслирует чужие изобретения. Что даже самые квалифицированные очень часто партийны и недобросовестны.
Унаследованный человеком язык описания его личной и народной истории уродуется его же личным произволом и общей историей. Так конница идёт в самоубийственную атаку на артиллерийские батареи, ведущие залповый смертельный огонь. И именно унаследованный как свой язык, не знающий страха реальности, ведёт конницу на смерть и, возможно, победу. Ведь побеждали ли же в нашу Гражданскую войну знаменитые «психические атаки», вынужденные элементарным отсутствием патронов у наступавших. Но язык «психической атаки» на свою историю не меняется даже тогда, когда тебе победы в ней нет.

Кавалерийский корпус РККА
Нужна особенная свобода (или беспринципность, измена наследству и предкам), чтобы изменить свой унаследованный язык из-за отрицающих его событий. Надо изменить своей кавалерийской присяге, чтобы из-за артиллерийского огня изменить не только тактику боя, орудуя бранным железом в руке, но изменить стратегию войны, орудуя железными батальонами на поле боя. Судьба не каждому даёт такую волю — быть не только безропотно умирающим тростником, но и вне своего батальона видеть фатальный ландшафт национальной истории, в котором течёт история твоего народа.
Как реагирует язык на новые события в личной и национальной истории? Чем страшнее война, тем проще её выводы. Чем откровеннее геноцид, тем яснее Победа над угрозой геноцида. Как дезавуировать живой миф Сталина-победителя рукотворной ложью Власова-альтернативы? Похоже, чаще всего — утверждением о многочисленных геноцидах, которые учинили коммунисты и Сталин, супротив которых геноцид, начатый Гитлером, лишь один из — и потому не центральный. И растворить гитлеровский геноцид в инфляции геноцидов, чтобы сделать их фоном для утверждения некой большей ценности, чем жизнь: не выживания народа в чреде геноцидов, а в уничтожении коммунистического уклонения от старого нарратива, где и гитлеровская марионетка Власов — поместоблюстительствует в роли героя.
Какой змеиный язык требуется этому ревизионизму? Язык отрицания унаследованной системы образов — это язык самозаконного якобы выбора альтернативного языка из чёрно-белого набора комиксов. Пропаганда иного «национального языка», история которого произвольно останавливается, например, на отречении Николая Второго. Так определяются границы измены живого и естественного национального языка: как ранний советский коммунизм начинал с отрицания дореволюционной истории, так новый русский пассеизм продолжает отрицанием истории послереволюционной.

На Берлин. 1945
Способна ли была, способна ли сейчас полнота русского интеллектуального языка смириться с монохромной палитрой лубка (комикса, пропаганды), в которой не образы-понятия в полноте национальной жизни идут в гибельную атаку на залповый огонь событий, а кабинетное усилие авторов лубка направлено к тому, чтобы им лично — остаться в тыловом кабинете. И руководить альтернативой. В уме. И прославление жертвы Николая Второго, где жертвами стали он сам, его семья, его народ и его страна, — звучит из кабинетов не ради атаки на артиллерийские батареи истории, а чтобы остановить историю для себя лично. Остановить так, чтобы «мыслящий тростник» удобно не умер вместе с мифологической толщей национальной истории или не восстал против старой её полноты. Тщетные потуги.
3.
Что же остаётся не кабинетному игроку, а живому историку в этой полноте, тесноте между лубочным нарративом и океаном живой истории? Наверное, то же самое, на что обречена сама личность — бесконечное самоотвержение, самопреодоление и финальная гибель.

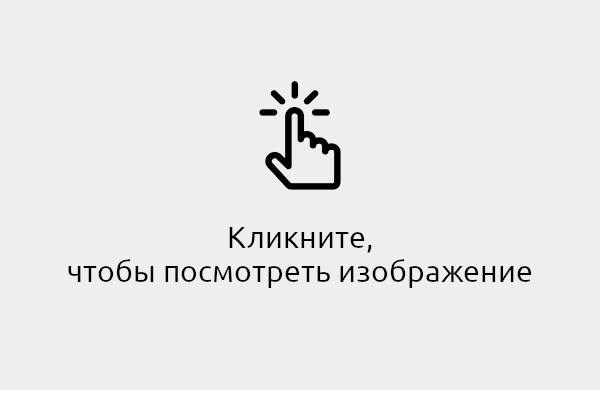
Комментарии читателей (0):