Белорусская общественность 17 сентября отмечает День воссоединения белорусского народа. К этой дате приурочена публикация интервью с Ираидой Царюк — сестрой белорусского героя Сергея Притыцкого.
В постсоветский период в белорусские герои записано немало сомнительных личностей, ещё большее количество удостоено соответствующих званий и титулов. Конструирование новой идентичности белорусов в постсоветский период сопровождается замалчиванием подлинно национальных героев и возвеличиванием тех, кто 20−30 лет назад считался «угнетателем», «эксплуататором», «палачом». Об одном из таких героев, о которых в современной Белоруссии почти не вспоминают, — Сергее Осиповиче Притыцком — в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказала его сестра — доктор исторических наук, профессор Ираида Царюк.
ИА REGNUM: Ираида Осиповна, позвольте начать нашу беседу с личного вопроса: легко ли быть сестрой белорусского героя?
Я помню, как мы ходили на просмотр фильма «Красные листья», снятом о Сергее Притыцком в 1958 году режиссером Владимиром Корш-Саблиным. Нас спрашивали: «Какие будут замечания?». Это было до выхода фильм на экран. Сергею фильм не очень понравился. Он тогда сказал: «В кино всё хорошо получается, а жизнь гораздо труднее и события сложнее». Мы с некоторыми моментами были не согласны, хотя и понимали то, что говорили авторы сценария — Аркадий Кулешов и другие: «Мы же не биографический фильм создавали, а художественный, поэтому допустим вымысел, не обязательно совпадающие с фактами добавления». На это Сергей сказал: «И всё же далеки от действительности некоторые сцены».
В итоге с чем-то согласились, с чем-то не согласились. Например, в фильме показано, что Сергей венчается в костёле, что коммунистам было недопустимо, и, кроме того: мы — православные, и уж если венчаться — так в церкви.
Когда фильм вышел в прокат, посыпалось много писем. Многие писали: «Какой же ты всё-таки подлец! Бросить такую замечательную Зосю с ребёнком, а женился на какой-то фифочке!». О Зосе вообще всё было полностью придумано. Писали: «Неужели твоя нынешняя жена более преданна, чем та — Зося?». Один мальчик написал: «Папочка! Я живой! Мама умерла, а я живу в Сочи. Я очень рад, что я твой сын, мне мама Зося много о тебе рассказывала. Когда я могу к тебе приехать?». Много было таких казусов.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
В фильме было много неточностей, связанных с поведением коммуниста, с фактами. Например, Сергей Притыцкий в ресторане с певицей. Какой ресторан? Не ходили коммунисты по ресторанам. Денег у них на рестораны не было, коммунистическая мораль запрещала им это. Ряд эпизодов с рестораном и предателем Стрельчуком не нравились Сергею. Но в целом создатели фильма приложили много усилий, чтобы создать впечатление о среде, в которой росли и боролись Сергей Притыцкий и другие.
ИА REGNUM: Вам лично что не понравилось в фильме?
Лично мне не понравились некоторые сцены — и с венчанием, и как он ездил домой (этот эпизод убрали).
ИА REGNUM: Какие эпизоды фильма ближе к реальности?
В 1936 году, после покушения на предателя Якова Стрельчука (мы не знали, что он остался жив), Сергей сидел в польской тюрьме, в одиночной камере. Его приговорили к смертной казни через повешение. Он перестукивался с узниками других камер — они договорились, что когда Сергея будут забирать на казнь, то он запоёт «Интернационал». У него был очень хороший голос. И вот однажды ночью пришёл начальник тюрьмы, с ксендзом и судьёй, и сказал: «Ну всё! Собирайся! Насиделся у нас тут!» Это было издевательство над заключённым. Что должен был подумать в этой ситуации смертник? Он запел «Интернационал», и тюрьма подхватила песню. Тогда они (начальник тюрьмы с визитёрами) закричали: «Молчи! Молчи! Отменили тебе смертную казнь!»
Я помню, было много писем о том, как заключённые пели «Интернационал». Были также демонстрации — на них пели новую песню, текст которой сочинил один еврейский юноша — звали его Лёва, сидевший в это время в тюрьме. За одну ночь он написал текст и каким-то образом передал на свободу. Песня была о том, как Сергей Притыцкий привёл в исполнение приговор народа провокатору Стрельчуку. Кто мелодию придумал — не знаю. Песня получилась маршевой.
В фильме звучала другая песня — специально созданная для фильма. И меня мучил вопрос: почему не эта песня? Не знаю, по какой причине авторы фильма к оригинальной песне отнеслись скептически — может быть, с точки зрения большой литературы она была слабой. Но с этой песней маёвки проводили и демонстрации. Я позже встретилась с тем юношей, который написал текст песни в тюрьме.
Когда Сергей Осипович умер, я по заданию Института истории партии съездила в Литву — там находились архивные партийные материалы. Меня принял первый секретарь ЦК Компартии Литвы и дал команду помочь мне — это очень подсобило. Архивисты меня даже поблагодарили за разбор материалов.
Я также хотела встретиться с медсестрой, которая ухаживала в тюремном госпитале за Сергеем. Но она была тяжело больна и мало кого узнавала. Встретилась я также с теми, кто присутствовал на процессе, когда Сергей стрелял, сидел с ним в тюрьме и встречался после выхода из тюрьмы.
ИА REGNUM: Можно ли подробнее рассказать о предателе Стрельчуке? Ведь на основании этого эпизода строится современное обвинение Сергея Притыцкого в том, что он террорист. Такая точка зрения господствует в польской историографии и проникла уже в публицистику белорусских ревизионистов — мол, неуважение к суду, государству и закону, правовой нигилизм и всякое такое.
Его называют «бандитом» и подобными определениями награждают с подачи польской дефензивы (контрразведка Генштаба II Речи Посполитой — прим. ИА REGNUM), «охранки». Сергея Притыцкого называли «бандитом», «убийцей» и в подтверждение этого заявляли: «Притыцкий неспроста стрелял в Стрельчука, потому что он по природе своей такой, потому что он убил свою собственную жену». Эти инсинуации распространяла официальная пресса. Распространяли сообщения о том, что Притыцкий стрелял в почётного гражданина Польши — Стрельчука. Тогда у Притыцкого не было никакой жены, он был ещё слишком юн, 18−19 лет — тогда так рано мужчины не женились. Вспомните выражение «польский кавалер» — под 40 лет мужчины женились.
Я тогда училась в школе, во втором или третьем классе. Учитель мне говорит, потрясая газетой: «Вот до чего доводит знакомство с этими бандитами — коммунистами! Сами становятся бандитами!». Мы ещё не знали, что случилось с Серёжей. «О ком вы говорите?» — спрашиваю. «Я говорю о Притыцком», — сказал он, и так на меня смотрит. — О твоём брате, который стрелял, убил хорошего человека. На, газету — неси, обрадуй своих родителей». Я схватила эту газету, принесла домой: «Вот, про нашего Серёжу пишут такое». А у нас сидит какой-то мужчина незнакомый. Отец говорит: «Что там, покажи. А, вот к нам товарищ пришёл — сказал».
Вот так и пошло с польской печати той поры — «бандит», «убийца». То есть сейчас к таким определениям не сами дошли.
На самом деле Сергей Притыцкий не убил «хорошего человека». Никто не знал, что у Стрельчука был бронежилет под одеждой. Хотя Сергей стрелял с двух пистолетов и ранил провокатора на суде — в голову или шею, но он остался жив. Родом Стрельчук из-под Белостока, по национальности — белорус, не поляк, из зажиточной семьи, служил в польской армии и там был завербован дефензивой. Отслужив, он стал сотрудничать с полицией, которая дала ему хорошую рекомендацию с нарочно сделанной пометкой «политически ненадёжен», посоветовав вступить в комсомол. В комсомоле они помогали ему продвигаться — вплоть до того, что в отношении него было совершено несколько акций, позволивших Стрельчуку проявить себя в засадах полиции, помогая комсомольцам.
Он закончил польскую школу, считался грамотным активистом и настолько хорошо продвинулся, что вошёл в состав членов ЦК Комсомола Западной Белоруссии. Был функционером ЦК, находился на хорошем счету.
Затем пошли провалы в комсомольской организации — стали подозревать разных людей, в том числе и его, установили слежку. Заметили его контакт с полицейским, ограничили его допуск к информации о важных мероприятиях. Он попросился перевода в другую область под предлогом того, что за ним следит полиция — его перевели.
Наконец решили послать его на учёбу в Советский Союз — здесь в Грушевском посёлке — есть такая улица в Минске, Грушевская — в то время «Грушевка» в пригороде Минска. Тогда там размещалась школа учёбы подпольщиков Западной Белоруссии. Он почуял недоброе — раз посылают в СССР, то будут проверять. Стрельчук скрылся — перестал ночевать дома, поселился в полицейском участке — «постарунке», стал ходить под охраной. Брестский областной комсомол хотел его «убрать» — несколько человек погибло в попытках это сделать. Провалы шли один за другим.
ИА REGNUM: Если позволите, к Стрельчуку ещё вернёмся. Расскажите про спецшколу.
После этой истории со Стрельчуком было решено послать на учёбу в Минск Сергея Притыцкого с товарищами. Школа была глубоко законспирирована, её условное название было «Сад». В ней основательно учили марксизм-ленинизм, историю революционного движения — мирового и польского, историю коммунистических партий.
Когда приезжал товарищ из Коминтерна читать лекции — выключали свет и зашторивали окна, были слышны только голос и шаги. Серёжа говорил: «Так необычно». Учились ведь молодые ребята — в голове романтика, подполье. И вот кто-то из Коминтерна приехал. Он говорил: «Нельзя, чтобы его видели». Поэтому в темноте коминтерновец читал им лекции. Там же, в школе, Серёжа познакомился с лектором.
ИА REGNUM: Кто же читал лекции?
Лектором оказался Михась Лыньков. Он читал лекции по белорусскому языку и белорусской литературе. Потом мы подружились с семьёй Лыньковых, и до смерти писателя общались.
Лыньков читал лекции под другой фамилией. Только когда приезжали секретари компартий — польской, французской, итальянской или другой —, тогда закрывали окна и гасили свет, а когда белорусские лекторы были — читали, как обычно, нормально.
Лыньков читал лекции под фамилией Александров. Интересно читал. И сами учащиеся школы много читали. Потом приключилась интересная история: в Москве был съезд писателей, в котором участвовал Лыньков, — была опубликована фотография. Потом он пришёл читать лекции, а ему говорят: «Товарищ Александров, а мы вас видели!». Он говорит: «Где?». Ведь нельзя, чтобы лектор школы КПЗБ (Компартии Западной Белоруссии — прим. ИА REGNUM) был разоблачён. Никто не должен был знать, что школа такая есть! Лыньков сказал: «Я не был в Москве, я не был на съезде! Нет, нет, товарищи — вы ошибаетесь!». Были такие моменты.
Возили их на экскурсии. Серёжа был в Донбассе. Изучали обстановку на местах. Выполняли различные задания — поручали им проводить комсомольские собрания, митинги готовить.
ИА REGNUM: Изучалась ли в этой законспирированной школе подрывная, диверсионная деятельность?
Нет. Не было этого. Подрывная и диверсионная деятельность компартиями Западной Белоруссии и Польши не приветствовалась — они делали ставку на разъяснение и обучение, на мирный путь. Было много маёвок, забастовок. Например, Серёжа участвовал в забастовке лесных рабочих. Но никогда не ставился вопрос о поджоге чего-либо или уничтожении — не было этого.
ИА REGNUM: Как же было принято решение о ликвидации Стрельчука, если даже менее радикальные акции не приветствовались?
В Брестской комсомольской организации погибло несколько человек. Серёжа вернулся со школы на Слонимщину в Гродненской области — он был секретарём комсомольского окружкома. Ему ещё на границе сказали, что ехать туда не надо и дали явку в Вильно. «Как же я не поеду в Слонимскую организацию», — сказал он. Поехал к себе и нигде не нашёл комсомольцев — явок не было. Он особенно не «светился», учитывая, что его предупредили о провалах, и поехал в Вильно. В Вильно тоже провалы — явочные конспиративные квартиры провалены. Тогда он поехал в Варшаву — в ЦК КПП (Компартия Польши — прим. ИА REGNUM). И там ему рассказали, что такие провалы везде, что разгромлена организация, и «мы предлагаем тебе остаться на какое-то время здесь, в Варшаве». Он говорит: «Я не могу! Если провалы, то надо найти ребят — кто где остался. Нужно возрождать комсомольскую организацию!» Он не согласился и поехал на Гродненщину. Пошёл по деревням, по прежним явочным квартирам…
Было интересно разговаривать с бывшими подпольщиками. Уже после смерти Сергея Осиповича они приходили и рассказывали, как они ходили по деревням, с какими предосторожностями — боялись попасться в руки жандармов. Жандармерии всё было известно — от Стрельчука. Больше 100 человек он выдал.
Через некоторое время удалось воссоздать несколько комсомольских организаций. Но надо ведь было избавиться от Стрельчука! На Гродненщине он уже не орудовал, на Брестчину боялся показываться — находился в Польше. ЦК КПЗБ не находило возможность его вызвать на свой суд, и в СССР его нельзя было вывезти. Надо было убирать.
Дворников Николай — первый секретарь ЦК Комсомола Западной Белоруссии, был другом Серёжи. Они встретились в Вильно и стали обсуждать, что делать. «Надо убирать». Сергей ему сказал: «Что же вы терпите до сих пор? Неужели нельзя было что-то предпринять?» И он ему рассказал про брестских ребят, которые погибли, пытаясь убрать Стрельчука.
Дворников говорит: «Я подберу ребят. Надо каким-то образом сделать». А Сергей ему ответил: «Самое верное дело. Но где же мы его встретим?». На это Дворников сказал, что такого-то числа Стрельчук будет выступать свидетелем в суде — будут судить преподавателей и студентов Виленского университета, которые состоят в партии и комсомоле.
«Давай в суде», — предложил Сергей. Дворников: «Ты что? С ума сошёл? Каким это образом? И потом: ребят жалко — комсомольцев, уже столько погибло человек». Сергей говорит: «Не надо: они неопытные, молодые, не закалённые в революционной борьбе». До этого Сергей стачки проводил, и окружной комитет комсомола возглавлял — опыт был.
«Пойду я», — сказал Сергей. Дворников не соглашался: «Мы не можем тобой рисковать». Сергей ответил: «Тогда я против того, чтобы туда кого-то посылать — чтобы зря ребята не гибли». Сергей сказал также Дворникову: «Если ты не организуешь — тогда я сам обращусь в ЦК КПЗБ».
Через несколько дней Дворников сообщил: разговаривал, и в принципе там одобрили, но сказали сделать подстраховку. Подстраховка была такой: суд проходил на втором этаже, а на поворотах лестницы будут стоять ребята.
«Слушай, для чего они примут огонь на себя, если полицейские будут стрелять? Дальше: вот ключ от кабинета адвоката». Не знаю, как это ключ к ним попал. Кабинет адвоката был за задней стеной зала заседания суда.
Во дворе зала суда был домик, в котором жила разорившаяся княгиня, а её сын был комсомольцем. Сергею было сказано: «Туда прорвёшься — она тебя спрячет. Там наша верная конспиративная квартира». На это Сергей ответил, что не будет подставлять женщину. «Нас и так мало (верных людей)», — сказал он. Ясно, что и ей, и её сыну будет несдобровать — Сергей отказался от этой идеи. «Я только сам», — сказал он.
Сергей пришёл в суд, а заседание уже началось, и его не впустили. Он настолько растерялся, разволновался, что пошёл к Дворникову и рассказал о ситуации. «Я хоть не выполнил задание партии, ну как такое могло случиться?» — сказал Сергей. Дворников ответил: мол, не расстраивайся — завтра или через день будут судить другую группу. И только на следующий раз Сергей попал на заседание суда.
Но вы представьте себе его терзания, эту подготовку. Он трое суток не ел ничего — не потому, что кусок в горло не лез, а потому, что, наверное, ему там — в школе КПЗБ — сказали, или старшие товарищи, что очень опасно, если будет ранение в желудок — поэтому на важное задание лучше идти голодным. Николай принёс ему пистолет, но Сергей выяснил, что что-то в нём заедало — ему принесли другой. Он ходил в какую-то рощу под Вильно учиться стрелять. Потом он просил два пистолета — на случай осечки, и ему выдали второй пистолет.
Наш старший брат Александр — он был старше меня и Сергея, тоже был в партии и служил в польской армии. Немного отвлекусь: по заданию партии он проводил пропаганду среди армейской молодёжи, потому что был заключён договор между Германией и Польшей против Советского Союза. Многие ждали, что Германия и Польша вместе нападут на Советский Союз. Поэтому надо было проводить соответствующую разъяснительную работу среди молодёжи, и в армии тоже — чтобы молодёжь отказывалась идти воевать против СССР. Как тогда говорили, нужно было «распропагандировать солдат». Александр по заданию партии проводил такую работу.
После армии у Александра остались документы — что-то вроде военного билета. Вот с этими документами Сергей и пошёл на заседание суда, и его беспрепятственно пропустили. В первых рядах он не мог сидеть, чтобы не бросаться в глаза. Подсудимые ждали, посматривали в зал. Уже выступили свидетели, обвинители — а Стрельчука всё нет. Сергей стал беспокоиться — мол, снова дело не выйдет. Один из подсудимых рассмотрел в зале суда Притыцкого — сообщил соседу, все стали поглядывать туда, где Сергей находился. А за ними стали поглядывать и родственники. Серёже-то каково? Не хватало ещё, чтобы и жандармерия обратила внимание. И в это время объявили выход Стрельчука.
Стрельчук вышел, стал давать показания в общем: Компартии Западной Белоруссии и Польши — «это сборище бандитов», «враги народа», «враги государства», «изменники» и тому подобное. Затем он стал называть конкретные фамилии и опровергать показания подсудимых: «Ну как же такого не было? А вот такого-то числа я к вам приходил, вы мне сказали, что у вас на квартире организовывается встреча. Как не было? Я на ней был!»
Он записывал все даты, кто куда и с чем приходил, какие вопросы обсуждались. Тогда у всех были иконы — Стрельчук свои записи прятал за иконы, пользуясь случаем, когда хозяин из комнаты выходил, а полиции сообщал, в какой комнате за иконой записка.
Представьте ситуацию, когда приходит полицейский и спрашивает: «У вас были коммунисты?». Отвечают: «Паночак, у нас никого не было!». «Ну как же «не было»?», — говорит полицейский, идёт в комнату и находит улики. Вот таким образом Стрельчук выдавал. Я привожу лишь один из примеров. Фактически в руках полиции оказывались протоколы собраний — со всеми фамилиями, с записями о том, кто и что говорил.
И в этот момент Сергей не выдержал: он спустился с верхнего ряда, перемахнул через барьер, подошёл к Стельчуку — чтобы пуля не попала ни в кого другого (стрелял-то он не как снайпер), взял его за воротник и выстрелил. Потом с другого пистолета выстрелил. Судьи перепугались и попадали под стол — не образно, буквально так и было. В зале началась паника. Серёжа с этими пистолетами выходит — а дверь закрыта. Он поддал плечом — дверь открылась, а за дверью стоят полицейские — подняли руки: «Паночку, не вбейте!». Они просили пощады, и он их не тронул. Стал спускаться вниз и, как только он оказался на повороте лестницы, они опомнились и стали стрелять сверху. Сергей ещё успел выстрелить — нашли эту пулю в стене. Никто его не прикрывал — с Николаем было решено не ставить ребят на лестнице суда, они в машине ждали его на улице. Сергею оставалось три ступеньки по лестнице спуститься, а там до входной двери метр-полтора. И он не смог дойти до двери.
ИА REGNUM: Не смог дойти до двери из-за ранений?
В нём было 19 дыр — 17 в кишках, пули попали в шею и руку. Одна пуля прошла через кишечник и застряла в паху. Полицейские навалились на него, он потерял сознание — и его забрали. А народ на улице шумит! В поддержку подсудимых пришли преподаватели, студенты.
Сергей Притыцкий был интернационалистом. Тогда среди подсудимых не было ни одного белоруса — были поляки и евреи. Но это были люди его класса, его убеждений — он их пошёл защищать.
ИА REGNUM: Притыцкого лечили в тюрьме?
Он находился в госпитале Святого Якуба — там боролись за его жизнь, прооперировали. Чудо медицины — то, что он остался жив. Врачи говорили, что у них ничего подобного в практике не было — чтобы человек со столькими ранениями выжил. Наверное, помогло то, что он был с пустым желудком. Из госпиталя его перевели в тюремную больницу и там долечивали. Полицейские следили за лечением и требовали, чтобы его спасли. Был запланирован большой публичный процесс — не столько над Притыцким, сколько над Компартией Польши и Компартией Западной Белоруссии, которая входила в состав польской компартии. Компартия Западной Украины тоже входила в состав Компартии Польши. Поэтому процесс над одним из коммунистов власти не интересовал — стояла более масштабная задача.
К Притыцкому была приставлена медсестра, которая следила за его состоянием и помогала делать перевязки. Посторонних к нему не пропускали. Через неё пытались передавать записки, а цветов к тюрьме приносили столько, что негде было ставить, и их тоже было запрещено проносить. Она рассказывала Сергею, где и какие цветы стоят, иногда могла пронести маленький цветочек.
ИА REGNUM: О том, что Притыцкий после акции 27 января 1936 года остался в живых, власти объявили сразу?
Сначала по городу поползли слухи, что Сергей Притыцкий погиб. Появились траурные ленты. Потом узнали, что он жив. После этого мальчишки — кто углём, кто кирпичом, стаи писать лозунги «Притыцкий должен жить!», «Спасём Притыцкого!», «Пусть живёт Притыцкий!» и в таком роде.
Когда я работала в архиве, мне принесли конверт — там были белые пёрышки. Я спросила, что это значит. Мне архивисты сказали: «Это свидетельства триумфа Сергея Притыцкого и тех страданий, которые он переносил в те дни». Когда выяснилось, что Сергей жив, мальчишки не только исписали лозунгами стены — они ещё и привязывали к лапкам голубей лоскутки красной ткани, на которой писали лозунги «Пусть живёт Притыцкий!», и выпускали их.
Представьте: по всему городу летают голуби с красными ленточками. Полиция этих голубей отстреливала. Кто-то собрал белые голубиные пёрышки и красные ленточки, которые сохранились в архиве.
ИА REGNUM: Как отреагировали на эту новость в Советском Союзе?
Сначала в Польше, а потом в СССР началось массовое движение солидарности с Притыцким. Однако первый комитет в защиту Притыцкого был создан в Париже. Из США, Канады, Франции, СССР, из самой Польши — из многих стран шли открытки и письма, проводились митинги, писались статьи с требованием освободить Притыцкого. Поднялось огромное движение в его защиту, международная общественность пыталась его спасти.
ИА REGNUM: Это движение повлияло на решение властей Польши, решившихся на процесс в мае 1936 года?
Сергея Притыцкого судили и приговорили к смертной казни через повешение. Защищал его Дурач — адвокат с европейской известностью. Он заявил протест, указав на состояние подсудимого — полицейские его вели под руки, бледного, истощённого, измождённого — он на ногах не мог стоять и сидеть не мог. Адвокат отметил, что в практике юриспруденции не было такого, чтобы полицейские вносили в зал суда. Тем не менее был вынесен смертный приговор — казнь через повешение.
Потом начались протесты и забастовки. Состоялся второй суд, который подтвердил приговор — казнь через повешение. Была подана апелляция и кассационный суд отправил дело в вильнюсский суд на тщательный пересмотр. После этого, в феврале 1937 года, был вынесен новый приговор, согласно которому сметную казнь заменили на пожизненное заключение.
Сергея Притыцкого перевели в Гродно, где он пробыл менее года, так и не выздоровевший. Его перевели из гродненской тюрьмы. Он ведь работал на Гродненщине, его хорошо знали — начались волнения, собрания и власти решили, что лучше перевести отбывать срок в самую страшную тюрьму — был такой городишко Равич в Познанском воеводстве, в двух километрах от германской границы. В равичскую тюрьму направляли политзаключённых, осуждённых на не менее чем 25 лет. Одно крыло тюрьмы было отведено для уголовников-рецидивистов, там и сидел Сергей Притыцкий.
ИА REGNUM: Многие белорусские публицисты задавались вопросом о причинах ликвидации КПЗБ в августе 1938 года. Одни указывали на маниакальность Сталина, другие — на внедрение шпионов и провокаторов в компартию, и история Якова Стрельчука как бы говорит в пользу этой версии. В чём на самом деле была причина ликвидации партии, которой так много сил отдал Сергей Притыцкий?
Вкратце дело было так. Компартия Польши была одной из самых многострадальных европейских партий. По своим идейным установкам она многое взяла от германской социал-демократии, равнялась на Розу Люксембург, многое было заимствовано от идеалистического коммунизма. Компартия Польши имела смелость не всегда соглашаться с мнениями ЦК ВКПБ или Коминтерна. Это было время накануне новой мировой войны, когда к власти уже пришёл Адольф Гитлер и начал создаваться единый антифашистский народный фронт. КПП принял решение участвовать в создании этого фронта, в работе легальных организаций. В эту же работу на территории Западной Белоруссии включилась КПЗБ, которую пополнили члены партии Белорусская крестьянско-рабочая громада, которую возглавлял Бронислав Тарашкевич. Уже тогда КПЗБ призывала работать в легальных организациях, чтобы увеличить влияние в Польше. Тарашкевич, Мятла, Волошин, Рак-Михайловский, Гаврилюк и другие добились статуса самой многочисленной организации левого толка во всей Европе. Они открывали библиотеки, избы-читальни, привозили прогрессивную литературу, пользуясь статусом послов польского Сейма. Фактически они были неприкосновенными персонами.
ВКП (б) не приветствовала работу легальных организаций и использовала формальный повод — был Стрельчук, были Гурин и другие предатели. В 1927 году произошёл разгром Громады, «белоруске послы» сидели в тюрьмах, и Советский Союз выменял их на польских ксендзов, офицеров и прочих. В СССР они работали некоторое время, застав период репрессий, и были расстреляны. Много членов Компартии Польши работало в комиссиях Коминтерна — ни один из них не остался в живых.
Притыцкий в это время сидел в Равичах. Он был репрессирован польскими властями.
Формальный повод для Москвы, для Сталина был таков: Компартия Польши и Западной Белоруссии поражены предателями, слишком много предателей. Компартию распустили в 1938 году. Рядовые коммунисты — Жезнякович, Царюк — и польские коммунисты — Ленский и другие, которые сидели с Притыцким в Равичах, — знать ничего не знали. Они были шокированы известием о роспуске компартии, многие на местах не согласились с таким решением. Не так активно, но рядовые коммунисты всё равно собирались, пытались действовать. Многие были страшно возмущены — письменно обращались в ВКП (б) и Коминтерн, требовали компартию реабилитировать и восстановить, но ничего не помогало. Пантелеймон Пономаренко от Георгия Димитрова такой ответ услышал: нет Коминтерна, нельзя восстановить. Известные коммунистки Регина Каплан и Ванда Василевская лично обращались к Сталину и Маленкову, прибыли в Москву и добились создания комиссии по пересмотру дел коммунистов, восстановлению их в компартии. В 1939—1940 годах 22 человека, в том числе и Притыцкий, были восстановлены в компартии. Сергею Притыцкому стаж был засчитан не с 1932 года, когда он фактически вступил в партию. В 1956 году компартию и коммунистов реабилитировали, все обвинения были сняты, всем оставшимся в живых партийный стаж был восстановлен.
ИА REGNUM: Как сложилась судьба Стрельчука после покушения?
Польские авторы пишут, что по натуре своей он был очень трусливый и мнительный, поэтому долго лечился и своими «болезнями» надоел всем. Он заявлял «я умираю», «меня убьют», просил оставить его в госпитале. Долго лечился, хотя нечего было там лечить. Затем его перебросили в Западную Польшу — уж очень просился, чтобы на Белосточчину его не присылали. Знал он многих, включая членов ЦК компартии и комсомола, многих рядовых коммунистов знал лично.
До Второй мировой войны польские власти активно использовали его знания, а сам он нащупывал возможности установить контакты с немцами. Когда началась война, он пошёл на службу к немцам и предавал поляков, выдавал немцам. В то же время он, чтобы его поляки не убили, польским патриотам — приверженцам лондонского правительства Сикорского, давал сведения о расположении немецких войск. Он служил и тем, и другим.
Немцы использовали его знание Белоруссии, он в Минск приезжал — встречался здесь с белорусскими националистическими коллаборационистскими организациями и им предлагал свои услуги. Сам он родом из-под Бельск-Подляски, и первыми жертвами немецких массовых расстрелов стала группа односельчан Стрельчука, которые так или иначе выказывали неодобрение немецкой власти. Стрельчук их всех «заложил», это был первый массовый расстрел поляков — буквально в первые дни войны.
Стрельчук старался не появляться в Белоруссии. Особенно он хлопотал, чтобы на Гродненщину его не посылали. Когда немцев погнали, он просил их его забрать. Но немцы его уже использовали, никакую информацию он дать не мог и ценности не представлял, поэтому немцы его с собой не взяли. Где пешком, где на перекладных — через Пруссию — добрался он до американской зоны оккупации, и там его приютили. Некоторое время он там работал, но как его использовали — этот вопрос я не изучала. Однако и американцы от его услуг отказались. Он побирался, стал бродяжничать, «бомжевать». Польский историк Семашко изучал его биографию, но и он в подробностях не знает, как он умер и где похоронен.
ИА REGNUM: Где похоронен этот тип?
В США. Награбленного золота и долларов Стрельчуку, проходившему под кличками «Алекс» и «Зауэр», на первое время хватило. Ездил он по разным странам, но никому не был нужен.
ИА REGNUM: Как Сергей Притыцкий оказался на свободе?
Как он сам вспоминал, однажды заключённые обратили внимание, что не принесли воду. Тюрьма была близ границы, и воду включали немцы — действовал польско-германский договор, дружили они. В один из дней ни завтрак не принесли, ни воду, ни проверки никакой — как будто вымерли надзиратели. Заключённые стали перестукиваться. Слышат шум во дворе — охранники, кто на велосипедах, кто на телегах спешат куда-то. Уголовники поймали одного из стражников — притянули его к себе, забрали ключи и стали кричать: «Война, выходите!». Уголовники открыли двери — 800 человек заключённых — и уголовников, и политзаключённых — освободились. Уголовники сразу «рванули», а коммунистам что делать? Пошли в Варшаву защищать её, так как решили, что немцы идут на столицу.
Притыцкий вместе с руководителями Компартии Польши пошли в Варшаву в тюремных робах. Где-то им помогали переодеться, подкармливали — так и добрались. К этому времени Варшава уже была окружена. Что они могли сделать? Немцы заняли Варшаву, и освободившиеся заключённые пошли в сторону советской границы. За Белостоком они узнали, что Красная армия 17 сентября перешла границу.
Вот такой «бандит-убийца» Сергей Притыцкий: освободившись из тюрьмы не идёт домой, а идёт защищать Варшаву от фашизма вместе со своими товарищами-коммунистами. В Белостоке они встречаются с Лыньковым, который тогда был корреспондентом газеты «Красная звезда».
Лыньков не знал Притыцкого в лицо, а знал лишь псевдоним «Янек» с тех времён, когда читал лекции. Так Сергей остался в Белостоке, а мы ничего не знаем — где он, как он. И только когда состоялось Народное собрание в Белостоке, когда он съездил на сессию в Москву, выступил в Кремле — только после этого он приехал в деревню повидаться с нами. Даже не переночевал и с группой товарищей (Шварцман, Черникова, Ковалевская, кто-то ещё был и красноармейцы) уехал в Белосток, где его назначили зампредом облисполкома. На этой должности он отвечал за культуру и социальные вопросы. До войны он там проработал.
Когда он уезжал из деревни, мне было 11 лет. Мама наша умерла. Перед смертью она съездила на свидание к нему в Гродно. А умерла она после того, как так называемая «пацификация» у нас была — избили полдеревни, и маму тоже.
ИА REGNUM: Она умерла от побоев? Что значит «пацификация»?
Может быть, не нужны такие подробности? Всего ведь не расскажешь…
ИА REGNUM: И всё же, если не очень тяжело вспоминать, расскажите.
Это был погром белорусов. Избивали полицейские, жандармерия. Это был 1934 год, вовсю боролись с компартией. Пьяные жандармы на телеге поехали по деревням, и давай «воевать с коммунистами» — ночью, на Крещенье.
К кому первым? К Притыцким! Вот они приехали, вошли в наш дом — и набросились на отца: «Где твои сыновья?». Он говорит: «Я не знаю. Вам они нужны — ищите. Здесь они не живут». В подполье они тогда были, на нелегальном положении. Они с воплями «а, ты коммунист» давай бить его резиновыми дубинками. Мать заступилась: «Паночки, что вы робите?». У отца уже кровь идёт, ему уже голову разбили. Избивавший отца повернулся — и рукояткой ей прямо в лоб.
Тут я выскочила — мне шесть лет было. Кричу: «Не бий моего ойца!». А он меня, ребёнка, отшвырнул, дубинкой стеганул. Когда мама увидела, что и меня бьют, — она к жандарму, и он её ударил.
Двое тогда вошло в дом, а один остался на улице караулить на случай, если кто попытается сбежать. Когда такое началось в доме, то моя сестра выбила окно и выскочила, побежала с криком «Пожар! Пожар!». А люди уже узнали, что у Притыцких полицейские. Они уже шли: кто с кольями, кто с глыбами льда, кто с чем. Тот, что на улице караулил, крикнул своим: «Бежим!». Они на телегу — и умчались.
Люба (сестра) говорит: «Нельзя оставаться здесь, потому что они вернутся. Пойдём к Наде». Старшая сестра уже замужем была. Мы вышли. Ночь. Накинули свитки — так и вышли. А тут уже конный отряд мчится. Мы вышли с хаты и пошли. На нас напали всадники. Мама упала — они её били. Я в сугробе каком-то сидела, они меня нашли потом. Тут подоспела молодёжь — парни, девчата, полсотни человек. А тех, что на лошадях были, — их человек пять-десять. Всадники стали бить молодёжь, а потом ускакали. Маму подобрали, отнесли к сестре. После этого она уже не вставала. У неё развивалась, как тогда говорили, «скоротечная чахотка». Скорее всего, что переохлаждение и большая потеря крови.
Это было в 1934 году, а в 1935 году — история с Серёжей в суде. Мама лежит, а к ней приходят поляки и заявляют: сын у тебя такой-сякой, «бандит» и прочее. «Ты откажись от него, — говорят. — И тогда мы оставим вас в покое». В 18 километрах был наш поветовый центр, маме говорят: «Приезжай на дознание!» Куда же кто её повезёт чуть живую?
«Откажись от него, прокляни своего сына! Скажи, что не хочешь его знать!» — говорили маме. Она ответила: «Умру, но не откажусь».
Приходили ребята из подполья, говорили: «И мы поймём вас, и Серёжа — откажитесь. Мы будем знать, что это будет чисто формально». Она сказала: «Нет. Я знала о его деятельности в подполье, я его поддерживала, а теперь отказываться? Как это я откажусь от него?»
ИА REGNUM: То есть «пацификация» заключалась в терроре?
В терроре, в погромах — белорусов, евреев (но это немного другая история).
ИА REGNUM: Еврейские погромы тоже были в Польше?
Да. А как же? Но в нашей деревне евреев не было.
ИА REGNUM: Выходит, что те полицейские, надзиратели и многие другие, которые были расстреляны в начале Второй мировой войны, не были такими благородными и невинными жертвами, как их изображают?
Я не одобряю расстрел польских офицеров в Катыни. Как не одобряю насилие в принципе. Борис Ельцин уже просил прощения, и поляки согласились извинения принять. Сколько можно долдонить об этом?
Первое гетто, которое было создано немцами, было создано на территории Польши. Польские солдаты Армии Крайовой расстреливали евреев — около двух тысяч человек погибло под Едвабно. И все молчали!
Помню, редактор журнала «Новый мир» писал статьи об этом. Несколько лет назад премьер или президент Польши сквозь зубы признал: «Да, к сожалению, такое было». И всё! И опять молчат. И не любят вспоминать. А про Катынь — постоянно. Это двойные стандарты.
ИА REGNUM: То есть «пацификация» белорусов проходила не так, как евреев в Едвабно?
В соседней деревне жалобы подали 105 или 106 человек. Они сняли побои, которые им нанесли. Приезжало руководство повета, представители жандармерии, говорили: «Заберите заявления, не пишите, мы накажем». Но крестьяне стояли на своём. Разбирали это дело, и наказали главного полицейского.
ИА REGNUM: Как наказали главного полицейского?
Сняли и перевели с понижением в Познаньское воеводство. Двух его помощников просто переставили с одного участка на другой. Вот такое «наказание».
Вот так мы жили. Вы меня спрашивали, легко ли было быть сестрой белорусского героя. Наверное, я достаточно рассказала.
(продолжение следует)

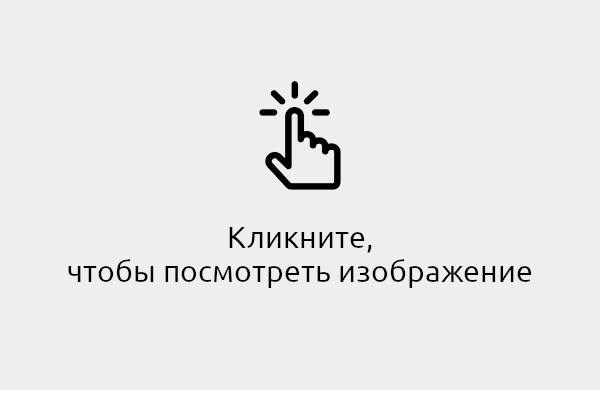
Комментарии читателей (0):