Рационализация: история строит память и идентичность
Сегодня понятие «исторической политики» нуждается не столько в теоретическом оплодотворении, чем часто грешат публицисты, нанизывая на это понятие весь букварь своих знаний о теориях идеократий и социальных коммуникаций, сколько в предметном, институциональном его сужении. Ведь речь идёт не об идеологии, не о механизмах прямого или косвенного диктата, не о политическом вообще, не о политике вообще, не о памяти в целом и не об истории как таковой. Упражнения в описании «политики памяти» всё чаще граничат с рассуждениями о том, как в принципе превращать индивидуальную и коллективную память в объект манипулирования, отделяя её от потребительского «рыночного» поведения. Вся искусственность таких абстракций была давно и остро замечена даже таким безрелигиозным человеком, как сталинский академик, физик С.И.Вавилов: «Содержание души пропорционально памяти. Начало потери памяти – начало реальной смерти». В современных обстоятельствах речь идёт о претензиях компенсировать естественную социальную память её рациональными симулякрами.
Сегодня под «исторической политикой» в широком смысле в России (вслед за Польшей и Украиной, о чём ниже) понимается – сколько бы конкурирующих версий их ни было - политика единых ориентиров, формул описания прошлого с целью формирования (не только властью, но и любым формирующим свой образ власти общественным институтом, в том числе оппозицией или даже революционной силой) партийного или общенационального единства, «политика памяти», историческая часть «национальной идеи».
Одновременно «историческая политика» в узком смысле – сколько бы конкурирующих версий её ни было - это систематическое профессиональное исследование и его институты, описание, преподавание и распространение исторических знаний-интерпретаций (прежде всего, о собственном прошлом). Оно первоначально производится как набор фундаментальных описаний и интерпретаций, полностью подчинённых стандартам и языку интернациональной науки, и лишь затем переводится на язык политических задач, «демократизируется» в гамме учебников для школы и высших учебных заведений, имплементируется в широкой сфере культуры и идентичности, включая музеи, туристические объекты, исторические символы, памятные даты, внутри- и внешнеполитические исторические претензии, общегосударственные или партийные ритуалы, протокольные мероприятия.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
Ясно, что оба смысла «исторической политики» – широкий и узкий – одинаково, но с разной степенью интенсивности неизбежно находят или создают «образ исторического врага», чужого, другого. И это лишь подтверждает тот очевидный факт, что «историческая политика» - как всякое идеологическое творчество и культурное самосознание – существовала «всегда», во всём обозримом горизонте сообществ, владеющих чуть более сложными, чем простая космогония или мифология, диахроническими представлениями о человеческом мире и месте конкретного сообщества в его развитии/пребывании. Можно сказать, что любые инструменты создания, сохранения и трансляции идентичности уже были инструментами «исторической политики» до того, как её назвали таковой. Так герой Мольера – Журден, на старости лет решив приобщиться к высокой культуре, - с удивлением обнаружил, что уже 40 лет говорит не как-нибудь, а именно «прозой».
Творящий, селекционирующий смысл индивидуально-профессионального исторического знания, проективный и регулятивный, прямо мифологический и утопический смысл массового исторического (и политического) знания давно выяснен как проблема. Чтобы претендовать на отражение научной истины, политик должен до конца избавиться от претензий на аутентичное историческое знание. И не потому, что ему некогда сидеть в архивах и библиотеках, а потому, что само превращение исторической науки в «историческую политику» делает даже прошлое объектом манипуляций, чтобы управлять будущим с большей диахронической глубиной и эмоциональностью.
Крупный французский историк, чьи суждения о методе следуют за предметом, Жак Ле Гофф воспроизводит и, как ему кажется, опровергает это грубое обстоятельство. Он пишет, цитируя:
«История, согласно Хайдеггеру, это не просто осуществлённая человеком проекция настоящего в прошлое, но и проекция в прошлое в наибольшей степени вымышленной части его настоящего; это проекция в прошлое будущего, которое он выбрал для себя, это история-вымысел, история-желание, обращённая вспять… Поль Вен прав в своём осуждении этой точки зрения, говоря, что Хайдеггер «всего лишь встраивает в антиинтеллектуальную философию националистическую историографию прошлого [XIX] века»…».
Но что иное, кроме как XIX век национальных возрождений, национализма, протекционизма и милитаризма, служит сегодня контекстом для абсолютного большинства властных «исторических политик» в Центральной и Восточной Европе, Прибалтике, Закавказье и Средней Азии? Разве что-то иное служит образцом для властей России в поиске той «исторической политики», что могла бы построить (с учётом российских многонациональности и федерализма) исторический шаблон для общенационального единства? Потому и академическое презрение французского историка к утопической и интерпретативной силе истории выглядит неискренней претензией на обладание истиной, свободное от актуальности и контекста.
Впрочем, и это академическое высокомерие Ле Гоффа, и моя гипотеза о возвращении контекста национализма находятся внутри единой исторической реальности, давно описанной великим левым мыслителем и - в 1940-1952 гг. – высокопоставленным сотрудником спецслужб и Государственного департамента США, стоявшим у истоков принципиальных решений США о послевоенном мироустройстве в борьбе против СССР и коммунизма. Это он, Герберт Маркузе, писал об этой реальности задолго то того, как она нашла себе частное применение в «исторической политике»:
«В обществе тотальной мобилизации, формирование которого происходит в наиболее развитых странах индустриальной цивилизации, можно видеть… формирование предустановленной гармонии между образованием и национальной целью; вторжение общественного мнения в частное домашнее хозяйство; открытие дверей спальни перед средствами массовой коммуникации».
Переводя на язык практики этот почти-эвфемизм о «предустановленной гармонии между образованием и национальной целью», мы должны прямо признать, что речь идёт о присущем современности – там, где современность устойчива и функционирует как консенсус – государственном, корпоративном и общественном идеологическом диктате в области массовой культуры и грамотности, острие которого и составляет «историческая политика».
Современный русский философ Елена Петровская, успешно интегрирующая (преимущественно левую) западную, особенно французскую философскую традицию ХХ века в русский культурно-политический контекст начала XXI века, обоснованно отмечает: «всякий объект исследования необходимо построить или создать». И ещё более обоснованно удерживает нас от примитивной азбуки массовой культуры, тоталитаризма-авторитаризма и современного «большого брата» технологического контроля над потребителем информации (включая историческую).
Она говорит о том, в чём избегают признаваться себе проектировщики «исторической политики», особенно из числа тех, кто противостоит государственным усилиям в этой сфере массовой пропаганды, и тех, кто упаковывает свой антикоммунистический историко-пропагандистский продукт в бронированные листы рационально создаваемой национально-государственной идентичности, мимикрируя под консенсус:
«массовая культура – это не объект чистого манипулирования, но область активной переработки фундаментальных социальных и политических тревог, фантазий и переживаний. На уровне отдельного произведения эта переработка осуществляется таким образом, что «сырой материал» фантазий и желаний часто архаического толка выходит на поверхность только для того, чтобы подвергнуться вытеснению со стороны символических структур произведения, которые обеспечивают реализацию желаний лишь в той мере, в какой их можно тут же нейтрализовать. Так вытеснение и исполнение желаний становятся двумя сторонами одного и того же механизма».
Так выявление, селекция, «приручение», эксплуатация и подмена исторического опыта (травмы, гордости, миссии) народа в интересах прикладной политики становится сутью «исторической политики». Стержнем и текстом такой политики выступает не историческое исследование вообще, а то, что современный голландский философ Ф.Р.Анкерсмит анализирует как «идеологический нарратив». В его анализе важно, что как научный метод – практически одновременно со становлением «исторической политики» как инструмента «холодной войны» против СССР – этот нарратив всё более подвергается сомнению именно с точки зрения его научного качества. Он становится умозрением, «спекулятивной философией истории», не наукой, а предметом веры: «этот тип философии истории, начиная с 1950-х гг., несколько испортил свою репутацию. Спекулятивная философия истории была обвинена в получении псевдознания о прошлом. Говоря конкретнее, было показано, что спекулятивная философия истории есть часть метафизики, поэтому получаемое ею знание не столько ложно, сколько не верифицируемо». С тех пор «спекулятивная философия истории все же осталась тем подходом к прошлому, которого избегают и историки, и философы». Но, добавлю, этот подход профессионально предпочитают использовать политики посткоммунистических и постсоветских государств. Что же - в описании Ф.Р.Анкерсмита - с точки зрения знания и какое именно отношение к миру и обществу выражает эта современная метафизика «исторической политики»?
«Историография создает нарративные интерпретации социоисторической действительности… Нарративные интерпретации - это тезисы, а не гипотезы. Нарративные интерпретации обращаются к прошлому, а не корреспондируют и не соотносятся с ним. Современная философия исторического нарратива околдована идеей утверждений. Язык нарративов автономен в отношении прошлого… нарративные интерпретации походят на модели, используемые дизайнерами одежды для демонстрации достоинств своих костюмов… Нарративизм - это конструирование не того, чем прошлое могло бы быть, а нарративных интерпретаций прошлого… Нарративные интерпретации являются не знанием, но организацией знания… Современная историография основывается на политическом решении».
В тени и сети таких «политических решений» подлинный поиск исторической истины – результат совокупных и конкурентных усилий, точно так же, как, например, свобода слова – финальный результат борьбы разнонаправленных ангажированных медиа, как общество – совокупность эгоистических усилий. Поэтому в тех обществах, где тотальный идейный диктат невозможен, «историческая политика» выступает не только как централизованная «политика памяти» или историография нации, но и как поле конкуренции разных «исторических политик». Равным образом, политическая сфера международных отношений является полем для инструментализации, навязывания стандартов, борьбы, сотрудничества, экспансии, «колонизации» государственных и общественных национальных и блоковых «исторических политик», если таковые способны к самоорганизации.
Нацизм и коммунизм: инструментализация и политические решения
Всякое понятие исторично и непосредственно «исторической политике» как системе рациональных действий в области истории, а не естественному «ландшафту памяти», всего около 30 лет. Известно, что, появившись в разделённой ещё Германии как метод общественно значимых интерпретаций нацистского прошлого Германии, «историческая политика» как рациональная задача была вскоре воспринята в посткоммунистической Польше, где в 1998 году был создан уникальный государственный Институт национальной памяти, имеющий своей целью не только исследование, но и прокурорское расследование и преследование преступлений нацизма и коммунизма с тем, чтобы далее государство осуществляло по их итогам карательные санкции или выдвигало общенациональные политические претензии. Не расследованиям, а презентациям преступлений коммунизма и формированию национально-политической идентичности, как известно, посвящены и «музеи оккупации» в Прибалтике, на Украине и в Грузии. Их статус ниже статуса польского Института национальной памяти, но они в равной степени являются инструментами современной «исторической политики».
Учитывая особую роль в польской истории и культуре принципов национальной мобилизации, мессианства, государственности и культа национальной жертвы, не удивительно, что именно современная Польша должна быть признана тем создателем «исторической политики», который из немецкого опыта окологосударственной дискуссионной лаборатории «исторической политики» превратил её в мощное оружие государственных политической люстрации, идеологического контроля и национальной историографии. Это соединение исторических исследований (в идеале борющихся за научную истину) с расследованием военных и политических преступлений стало беспрецедентным и уникальным изобретением польской практики, до сих пор не повторённым и не превзойдённым ни в одной стране современного мира. Даже Сталин не прибегал к историческому исследованию деятельности Троцкого, чтобы выдвинуть ему политические обвинения.
Именно польский образец стал во второй половине 2000-х исходным для создания аналогичного Института национальной памяти на Украине при президенте В.Ющенко, однако не в качестве самостоятельного ведомства, а в качестве подразделения Службы (государственной) безопасности.
Это лишний раз проиллюстрировало то известное обстоятельство, что в посткоммунистических и постсоветских странах «историческая политика» является предметом особого государственного внимания: не только инструментом декоммунизации, но и инструментом построения новой национальной идентичности, в исторической части которой должны содержаться ответы на главные вопросы истории этих стран в ХХ веке. Эти вопросы следующие:
(1) каковы были корни коммунизма и национализма в каждой из этих стран, как они пережили раскол мира
(2) между (авторитарным, тоталитарным и демократическим) капитализмом и коммунизмом,
(3) между нацизмом и его союзниками, с одной стороны, и коммунизмом, с другой, который в главные моменты Второй мировой войны против нацизма был союзником капиталистических демократий;
(4) каковы были масштабы, пределы и причины сотрудничества этих стран или их обществ с нацизмом и коммунизмом.
Имея в виду, что национально-демократические движения в этих странах в конце 1980-х гг., приведшие к распаду мировой коммунистической системы и СССР, имели своим врагом именно коммунистический СССР, логично, что, преодолевая его наследие, эти движения и их «исторические политики» в бинарной системе массово-пропагандистской культуры выбрали именно коммунизм в качестве главного «чужого», «другого». Это автоматически породило проблему восстановления, реабилитации исторического национализма (часто - этнического авторитаризма) как стержня национальной государственности, «прерванной» коммунизмом. И поставило проблему коллаборационизма авторитарных и националистических движений с нацизмом, осуждение которого было редуцировано антикоммунизмом и, перейдя за грань историографического ревизионизма, превратилось в мемориализацию «очищенного» (и даже не «очищенного») от нацистских коннотаций коллаборационизма как «национальной силы», вместе с Гитлером боровшейся за «независимость от СССР».
В современной России существует абсолютный, устойчивый, преемственный общенациональный консенсус вокруг Второй мировой войны и отвержения сотрудничества с нацизмом: по социологическим опросам, в среднем 85% считают День Победы 9 мая 1945 года главным государственным и одним из главных общественных праздников, в среднем до 95% заявляют, что представители их семьи принимали участие в войне против нацизма. Это само по себе проводит серьёзный водораздел между Россией и странами Центральной и Восточной Европы (кроме Польши и Сербии), где российский миф об общенациональной войне против Гитлера не находит столь однозначных аналогов и совмещается с нарративом о сопровождавших её актах гражданской войны «брата на брата», легитимирующих коллаборационизм и участие сотен тысяч солдат национальных частей в боях против сил антигитлеровской коалиции – на стороне Гитлера.
Со своей стороны, связывающее себя – в первую очередь посредством 9 мая - с историей СССР большинство населения России, таким образом, оказывается ментально живущим в генетически советском «ландшафте памяти», для которого исторический «другой», «чужой» и «враг» - нацизм и его союзники. Принципиальное отличие этого ландшафта России от «исторической политики» соседних стран Восточной Европы состоит и в том, что его существование носит инерционный, мало управляемый властью и обществом характер: и это естественно, ибо трудно представить себе, что для поддержания общенационального консенсуса вокруг 9 мая в России кому-то понадобилось бы прибегать не лапидарным мерам обслуживания ритуала и символов, а к особо изощрённым методам пропаганды, формирования идентичности и выработки особой «исторической политики».
Зримо действие механизма исторического консенсуса представляется, например, каждый год 9 мая в Москве, где традиционно на Поклонную гору в течение всего дня собираются растущие сотни тысяч из тех, кто отмечает этот праздник. Наблюдение за изменениями структуры посетителей Поклонной горы свидетельствует, что год от года среди них растёт доля постоянно или временно живущих в Москве внешних и внутренних трудовых мигрантов из Средней Азии и с Кавказа. С формально-исторической точки зрения все они, будучи бывшими гражданами СССР или их детьми, отмечают тот официальный советский праздник, к которому имеют прямое отношение, равное с гражданами России. Однако сравнение празднования 9 мая в Москве на Поклонной горе с таковым же на родине этих мигрантов показывает, что там оно становится всё менее многолюдным. Это значит, что в наибольшей степени – вполне бессознательно, по логике памяти, - большинство мигрантов привлекает на Поклонную гору реализация в рамках ритуального консенсуса - именно дефицитного для них в будние дни социального равенства с остальными жителями Москвы, именно акт принадлежности к абсолютному социально полноправному большинству, важному для тех, кто в своей рабочей жизни остаётся на нижних этажах неформальной общественной и экономической иерархии.
Имея перед глазами столь яркую картину генетического консенсуса, государство и общество в целом остаются довольно пассивными зрителями того, как в медийной, кружковой, интеллектуальной сфере символика 9 мая и память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. подвергаются интенсивной ревизии, становятся предметом альтернативного мифотворчества, в котором находят своё место и крипто-нацистские маргиналы, и поклонники коллаборационистов из армии Власова и казачьих формирований, «демифологизирующих» публикаций, сталкивающих миф о войне с избирательными штудиями о зверствах Сталина, Красной Армии, НКВД, «Смерша» и т.д.
Надо прямо сказать, что даже идеальная государственная «историческая политика» в России, даже если бы Россия была абсолютно тоталитарной, идеократической диктатурой, как то описывают её неумеренные критики, располагала бы неограниченными финансовыми и технологическими ресурсами, способными вести планетарную экспансию, - в интернациональном противоборстве против старого антикоммунизма и союзных ему старых и новых национализмов - Россия сегодня находилась бы в глухой, территориально изолированной обороне.
Дело в том, что принципиально «вселенская», надэтническая историческая идентичность России и СССР (борьба против нацизма, этнического национализма, шовинизма) реализовывает себя лишь в конкретно-исторической «политике памяти» (спасение именно народов России и СССР от геноцида), которая определяется в национальных рамках. Этой фактически изолированной «вселенскости», напротив, противостоит систематически выстроенная ещё в конце 1940 – начале 1950-х в интересах «холодной войны» Запада во главе с США солидарная «историческая политика», как уже сказано, соединяющая в себе мифы интегральной «западной цивилизации» с мифами национальных освобождений, приоритетно направленных не против Запада, а против враждебного ему СССР. Позитивная «цивилизационная» основа этой «исторической политики» Запада и её ключевые негативные паттерны о «русском медведе» и др., отрицающие «вселенские» притязания России, имеют гораздо большую глубину, чем символ 9 мая. Они были заложены в инструментальных мифах, сформулированных ещё в XVI веке в польско-немецкой публицистике, развитых в германской идеологии Mitteleuropa (Срединной Европы) и её восточного Lebensraum (жизненного пространства) конца ХХ – начала ХХ вв. и во многом совпадающих с ними польских проектах 1920-1930-х гг. M?dzymorze (балтийско-адриатическое Междуморье) и «прометеизме» - проекте разрушения СССР с помощью националистических движений на Украине, Кавказе, Волге, в Туркестане и Сибири. В польском Генштабе о задачах «Прометея» в 1937 году писали так: «Прометеизм является движением всех без исключения народов, угнетаемых Россией... чтобы вызвать национальную революцию на территории СССР... «Прометей» мобилизует членов по собственной воле и под собственную ответственность, не беря на себя никаких политических обязательств по отношению к национальным центрам... «Прометей» должен иметь право проявлять национальный радикализм для того, чтобы самым эффективным образом создать революционную динамику. Радикально-национальные тенденции не должны ему ставиться в вину и не должны неправильно расцениваться как фашистские...».
В июле 1959 года, после международной кампании по разоблачению системы принудительного труда в СССР и «экспорта коммунизма» в Восточную Европу, после организации мировой сети антикоммунистической интеллигенции и идеологического отрицания «тоталитаризма» в трудах таких известных лиц, как, например Ханны Арендт и Людвиг фон Мизес, пропаганды сводной теории «тоталитаризма», соавтором которой выступил известный американский идеолог польского происхождения, советник президента США по национальной безопасности (1977-1981) Збигнев Бжезински, после серии попыток объединить русскую антикоммунистическую эмиграцию, круги бывших нацистских коллаборационистов и организации националистической эмиграции и «правительств в изгнании» народов бывшей Российской империи и СССР в борьбе против СССР как целостного государства, разоблачения «коммунистической агентуры» в США (особенно в Государственном департаменте), Конгресс США принял резолюцию о «порабощенных народах» в СССР и странах коммунистического блока. В ней, в частности, говорилось: «с 1918 года империалистическая политика русского коммунизма привела к созданию обширной империи, которая представляет зловещую угрозу безопасности Соединенных Штатов и всех свободных народов мира». Резолюция требовала освобождения и независимости: Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, «Идель-Урала» (то есть Поволжья, Татарии и Башкирии), Тибета, «Казакии» (то есть страны казаков), Туркестана, Северного Вьетнама. Было предписано ежегодно отмечать Неделю порабощенных народов: это продолжается и поныне, уже после распада СССР, объединения Германии, Вьетнама, декоммунизации и обретения независимости стран Восточной Европы и бывш. СССР.
Самым ярким событием антикоммунистической «исторической политики» Запада в 1990-е годы стал коллективный труд «Чёрная книга коммунизма», оперативно переизданный в России немыслимым, невозможным для любой, в том числе прежней советской и современной русской, научной книги массовым тиражом в 100.000 (!) экземпляров. «Идеологический нарратив» этой книги исходил из антинаучной, достойной уличной агитации презумпции самозарождения коммунизма из средневековых утопий и злого русского большевизма: «Среди трагедий, потрясавших мир в XX веке, коммунизм - грандиозный феномен эпохи, начавшейся в 1917 году и окончившейся в Москве в 1991… Методы, пущенные в ход Лениным и возведенные в систему Сталиным, не только схожи с методами нацистов, но являются их предтечей». Демонстративно игнорируя контексты исторических преступлений капитализма, колониализма, союзников Гитлера, авторы «Чёрной книги» так формулировали пафос своего труда, который даже трудно назвать иначе, кроме как ханжеский: «Почему Ленин, Троцкий, Сталин и другие считали необходимым уничтожать всех, кто представлялся им «врагами»? Почему сочли они себя вправе преступить священную заповедь, обращенную ко всему человечеству: «Не убий»?». Это ангажированное ханжество не было случайным и, по крайней мере, отражало и отражает новый операциональный консенсус вокруг «идеологического нарратива» и «политических решений», которые сегодня уже выстроены в концепциях и институтах «исторической политики» условного Запада (ЕС и США).
В 2008 году (как следует из признания МИД Польши, по инициативе Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Венгрии) Европейский парламент ЕС предложил отмечать 23 августа, в годовщину подписания договора о ненападении между Германией и СССР («пакта Молотова и Риббентропа»), День памяти жертв тоталитарных режимов, то есть нацизма и коммунизма, Ясно, что ЕС тем самым вывел из сферы солидарной ответственности за экспансию нацистской Германии в Европе Великобританию и Францию как участников их Мюнхенского соглашения («Мюнхенского сговора») от 30 сентября 1938 года с Германией и Италией о разделе Чехословакии (а также ставших участниками раздела Польшу и затем Венгрию) или, например, договор 1934 года между Польшей Пилсудского и Германией Гитлера. Таким образом, коммунистический СССР, бывший в 1941-1945 гг. союзником США, Великобритании и Франции в борьбе против гитлеровской Германии (включая Австрию) и союзных ей Италии, Венгрии, Болгарии. Румынии, Финляндии, Испании, Словакии, Хорватии, дружественно нейтральных Португалии, Швейцарии, Швеции, был приравнен к самой гитлеровской Германии. Ясно также, что, кроме СССР, к числу тоталитарных режимов, исходя из этого решения, в ЕС отнесли также власти всех коммунистических стран, но не относят многочисленные националистические, авторитарные режимы и союзные Гитлеру и коллаборационистские правительства Италии, Венгрии, Болгарии. Румынии, Финляндии, Испании, Словакии, Словении, Хорватии, Португалии, Литвы, Латвии, Эстонии и др., в отношении которых власти и респектабельные политики нынешних стран-членов ЕС подчёркивают свою историческую и политическую преемственность.
В ноябре 2008 г. в Чехии была создана Постоянная рабочая группа по «Платформе европейской памяти и совести». Инициатива была утверждена Европейским парламентом в апреле 2009 г. - в целях поддержки сети национальных учреждений, специализирующихся на исследованиях истории тоталитаризма, создания европейского центра документации и мемориала жертв тоталитарных режимов. Решением Еврокомиссии в декабре 2010 г. создание «Платформы» было объявлено важной европейской инициативой. Первым проектом организации должна стать подготовка и издание совместного учебника по истории тоталитаризма в Европе. 14 октября 2011 в Праге во время встречи премьер-министров стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) «Платформа европейской памяти и совести» была создана. Её учредили специализированные институты, прямо предназначенные для формулирования и осуществления «исторической политики», служащей экспертным фундаментом для внешнеполитических действий. Примечательно, что уже здесь и далее инфраструктура «исторической политики» в деле мемориализации жертв тоталитаризма абсолютно исключила национальные и международные организации, специализирующиеся на мемориализации жертв Холокоста и коллаборационизма, то есть фактически вывела из-под ответственности националистических союзников Гитлера в Европе.
23 августа 2011 года в Варшаве, в музее Варшавского восстания, министры юстиции стран ЕС впервые отметили Европейский день памяти жертв тоталитарных режимов. Среди прибывших в Варшаву с этой целью были заместители премьер-министров Латвии и Венгрии, министры юстиции Литвы, Эстонии, Хорватии, Румынии, Чехии, Испании, Швеции, Словакии и Мальты. Они приняли «Варшавскую декларацию», по своему замыслу должную стать – в соответствии с местом её принятия и особым опытом Польши в создании научно-карательной версии «исторической политики» - общеевропейской программой внешнеполитической институционализации и инструментализации того, что прежде было во внутриполитической сфере. В декларации, в частности, вновь утверждалось равенство коммунизма и национал-социализма и априори выдавалась индульгенция «демократии» в целом, то есть тем колониальным, авторитарным и коллаборационистским режимам, что до сего времени держат прежние результаты своей «биополитики» не то чтобы в тени, но явно не в центре внимания «исторической политики» ЕС, и продолжают эту «биополитику» в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии:
«тоталитарные режимы ответственны за большинство позорных актов геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений… [поэтому только] преступления тоталитарных режимов в Европе, независимо от их рода и идеологии должны быть признаны и осуждены».
То есть, если решение Европарламента об учреждении Дня памяти жертв тоталитаризма ещё содержало в себе глухие оговорки о том, что кроме тоталитарных режимов накануне Второй мировой войны существовали неназванные авторитарные режимы, под которые ценой дополнительных разъяснений можно вполне законно подвести режимы 1920-1930-х гг. в Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Италии, Румынии, Польше, Болгарии, 1930-1970-х в Испании и Португалии, практика которых тоже должна быть осуждена и жертвы которых помянуты, то теперь – видимо, ради солидарности бенефициаров в ЕС – эти оговорки были ликвидированы.
Из новой формулы следует, что союзники Гитлера в Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Италии, Румынии, ответственные за геноцид и прочие преступления, и уж тем более - союзники Гитлера во главе Финляндии, Испании, Португалии, Франции, и уже тем более - демократические власти Англии, Франции, США, до определённого момента прямо поддерживавшие Гитлера в его агрессии на Восток, в сторону СССР, не подпадают под действие декларации и справедливости ЕС. Громко прозвучало и умолчание в декларации о жестоких этнических чистках, проведённых, например, против немцев и венгров демократическими властями Чехословакии в 1945 г. или демократическими властями Хорватии против сербов Сербской Краины в 1995 году.
Декларация также впервые ввела в сферу имплементации «исторической политики» ЕС страны бывшего СССР, охваченные специальным форматом «нового соседства», подразумевающим введение стандартов ЕС без предоставления этим странам членства и, следовательно, полноты прав в рамках ЕС, и призвала «поддержать деятельность неправительственных организаций, в том числе организаций из стран, охваченных Восточным Партнерством, которые активно вовлекаются в изучение и сбор документации, связанной с преступлениями, осуществленными тоталитарными режимами, а также в распространение исторических знаний». Это значит, что в идеологических требованиях ЕС к Белоруссии, Украине, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджану будет содержаться осуждение режимов, априори «ответственных за большинство» преступлений, но в стороне будут оставлены массовые преступления гитлеровских коллаборационистов – в том числе из этих стран.
Единственным значимым ответом России на такого рода «антитоталитарный» ревизионизм в ЕС стала совместная российско-израильская декларация президента Израиля Шимона Переса и президента России Дмитрия Медведева, оглашенная в августе 2009 года:
«Еврейский и русский народы сражались на одной стороне во время Второй мировой войны, были вместе в борьбе против гитлеризма и расизма. Сотни тысяч евреев бок о бок с русскими и представителями других народов Советского Союза сражались в рядах Красной Армии, которая освобождала концентрационные лагеря и лагеря смерти, сыграла жизненно важную и ключевую роль в исходе войны против нацистской Германии. Многие из этих героев Красной Армии сейчас живут в России, Израиле, других государствах. Мы чтим их мужество и решимость. Никакая попытка ревизии истории не способна принизить или затушевать эти явные факты. Попытки отрицания Холокоста являются прямым оскорблением памяти всех жертв Второй мировой войны и тех, кто боролся против фашизма, попытки принизить трагедию Холокоста и вычеркнуть его из истории, а также умолчать о гибели и страданиях миллионов невинных жертв разных национальностей».
Но этот ответ остался в тени даже в действиях российской дипломатии и усилиях официальной информации и (наряду с открытием в июне 2012 года в Израиле памятника воинам Красной Армии, павшим в борьбе с нацистами) стал не более чем проходным эпизодом двусторонних отношений, не применённым к растущему давлению евроатлантической «исторической политики» на Россию и её ближнее зарубежье.
Новые, иные, многосторонние международные и внутриполитические усилия государственной власти России в этой сфере, которые можно было бы назвать предпосылками к формированию «исторической политики», ограничились рядом неудачных попыток создать институциональный и правовой фундамент под, по крайней мере, оборонительной или карательной практикой в отношении реабилитации нацизма.
В первую очередь именно этому должна была быть посвящена деятельность Комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, созданной указом президента Дмитрия Медведева весной 2009 года. Но она даже не ставила перед собой задач формулирования принципов «исторической политики» и, не продемонстрировав ярких результатов работы была фактически упразднена весной 2012 года. Фактическим продолжением её неяркого существования стали проекты Русского исторического общества и Русского военно-исторического общества, возглавленных высшими чиновниками, но сосредоточенных на протокольных мероприятиях и подготовке к празднованию круглых юбилейных дат.
Подготовленный той же весной 2009 года в Государственной Думе России проект федерального закона «О противодействии реабилитации в новых независимых государствах на территории бывшего Союза ССР нацизма, нацистских преступников и их пособников», детально описывавший структуру и санкции против исторического ревизионизма, был отвергнут представителями парламентского большинства.
Тем временем внешняя квалифицированная «историческая политика» грубо заставляла российскую дипломатию капитулировать.
Подготовленный в 2010 году по итогам работы официальной польско-российской группы по сложным вопросам совместный труд оказался полностью историческим, соединившим усилия самых авторитетных историков России и Польши – исследователей двусторонних отношений. Но поскольку определение общей конструкции и пропорции тематических блоков в этом труде находилось в сфере ответственности политических представителей сторон, итоговый текст примирительного труда на 90% соответствовал требованиям Польши, а именно подтверждению польских претензий к России и польских же умолчаний: вновь акцентировав уже выясненный вопрос о Катыни, трудно переводимый на современный русский политический язык, но рифмующийся с усилиями современной Прибалтики, вопрос о «советской оккупации» Польши и др., он практически проигнорировал традиционно игнорируемый в Польше вопрос о массовых жертвах советских военнопленных в Польше в 1920-1921 гг., когда в результате жесткого обращения и военных преступлений в концлагерях погибли десятки тысяч солдат. И, несмотря ни на какие риторические упоминания этой проблемы в речах высших должностных лиц России, практический «компромисс» польско-российской группы грубо отверг исторический смысл этих упоминаний, продемонстрировав профессиональную непригодность официальной «исторической политики» России.
Проведённый российской общественностью весной 2012 года успешный сбор более 10.000 подписей под обращением к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву об учреждении в России «Дня памяти жертв нацизма и коллаборационизма» вновь пытался актуализировать проблематику борьбы против «исторической политики» постсоветских и посткоммунистических государств, подвергающих националистической (антикоммунистической) ревизии роль гитлеровских коллаборационистов. Именно в этом был смысл инициативы, дополнительной к существующему траурному «Дню памяти» в день начала Великой Отечественной войны 22 июня. Но государство, придав инициативе консультативный характер, фактически отвергло её, не воспользовавшись ею для формулирования задач собственной «исторической политики».
Весной 2013 года в Государственной Думе была предпринята новая попытка актуализировать проект закона против реабилитации нацизма, но и она не встретила поддержки.
Всё это говорит о том, что в деле поддержания «генетического консенсуса» вокруг Дня Победы 9 мая государство осталось ритуальным благоприобретателем и отказалось от инструментализации в современной «исторической политики» опыта СССР в такой его внутри- и внешнеполитически наиболее нейтральной сфере, как победа антигитлеровской коалиции.
Окончание следует

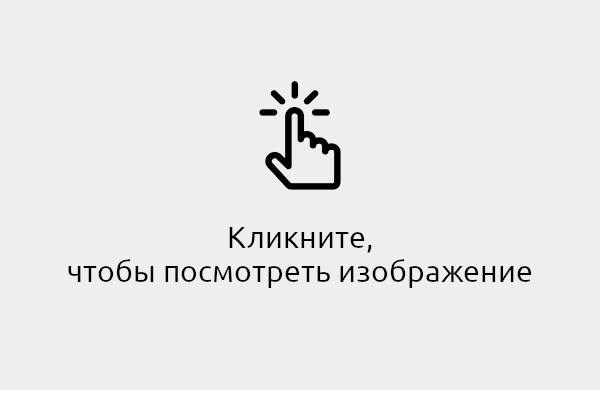
Комментарии читателей (0):