Грузинский фактор
Грузия продолжает рассматривать Южную Осетию как «оккупированную Россией территорию». Тбилиси активно продвигает в структурах ООН, ЕС и ПАСЕ резолюции, осуждающие статус республики и призывающие к её изоляции. Грузинский фактор блокирует все попытки установить дипломатические связи Цхинвала даже с теми странами, которые симпатизируют России.
Несмотря на это, Тбилиси избегает прямых провокаций, используя исключительно ресурсы международных площадок. По оценке МИД Южной Осетии, при сохраняющейся напряжённости в грузино-осетинских отношениях, в настоящее время обстановка на приграничной территории Грузии характеризуется как относительно спокойная.
Социально-экономическое влияние Грузии, хотя и ограниченное, создаёт дополнительные риски. Тбилиси реализует проекты «мягкой силы», предлагая жителям приграничных сёл Южной Осетии доступ к грузинским социальным услугам и образовательным программам в обмен лояльность.
Политические заявления Тбилиси о «расширенной автономии» для Южной Осетии, несмотря на всю их декларативность, вносят элемент дестабилизации в ряды южноосетинских элит. На фоне парламентских выборов 2024 года лидеры «Грузинской мечты» намекали на готовность предоставить региону особый автономный статус по модели Аджарии.
Хотя Цхинвал категорически отвергает подобные сценарии, и даже сами дискуссии вызывают опасения у местных властей. С другой стороны, мнимая угроза реинтеграции (сдачи по примеру Карабаха) в состав Грузии используется различными силами для консолидации общества.
Цхинвал активно эксплуатирует историческую память о конфликтах с Грузией - от событий 1920 года до войны 2008 года, причём каждая из южноосетинских политических сил представляет себя едва ли не главным защитником независимости. В этой ситуации любые попытки диалога с Тбилиси, даже на уровне гражданских инициатив, маргинализируются.
Таким образом, нарратив о внешнем вмешательстве сплачивает элиты, в определённой степени отвлекая внимание от внутренних проблем вроде коррупции или социально-экономического кризиса. Постоянная угроза гипотетической реинтеграции с Грузией становится единственным инструментом легитимации власти в Южной Осетии. В целом «грузинский фактор» также работает на углубление зависимости Южной Осетии от России.
Вместе с тем эксплуатировать его до бесконечности невозможно, и в обозримой перспективе системные проблемы, от экономической стагнации до демографического коллапса, начнут постепенно отодвигать «грузинский сюжет» на второй план. В будущем неизбежно встанет вопрос о том, сможет ли Цхинвал претендовать хотя бы на минимальную политическую субъектность или же республика останется предметом борьбы внешних игроков, что обесценит любые её притязания на суверенный статус.
Абхазский фактор
Досрочные президентские выборы в Абхазии в феврале 2025 года, вызванные отставкой президента Аслана Бжания на фоне массовых протестов и экономического коллапса, стали важным сигналом для Южной Осетии. Обе республики, будучи непризнанными государствами, сталкиваются с идентичными вызовами, то есть зависимостью от российского финансирования, демографическим спадом и давлением со стороны Грузии.
В Южной Осетии события в Сухуме воспринимаются как «зеркало» собственных рисков. Например, протесты в Абхазии, спровоцированные задержками зарплат бюджетникам и скандалами вокруг распределения российской помощи, заставили Цхинвал ускорить социальные выплаты в 2024-2025 годах, опасаясь повторения этого сценария.
Более того, кризис в Абхазии обострил дискуссии о легитимности местной власти в Южной Осетии. Хотя обе республики проводят выборы под патронатом Москвы, массовые протесты в Сухуме показали, что даже формально лояльные лидеры могут потерять поддержку населения. Это вынудило политиков в Южной Осетии искать новые способы консолидации общества. Власти республики в очередной раз прибегли к стандартной схеме и усилили риторику о «внешних угрозах», связывая недовольство граждан с «происками Тбилиси». Подобная политика позволила временно снизить критику в свой адрес. Тем не менее у южноосетинских политиков до сих пор не выстроена эффективная система взаимодействия с обществом.
Кроме того, власти Южной Осетии воспринимают пример Абхазии как модель взаимоотношений с Российской Федерацией, отмечая, что Сухум, несмотря на проявление «нелояльности», получил увеличенное финансирование от Москвы. Это породило в коридорах власти легкую дискуссию о целесообразности «мягкой конфронтации» с Кремлем для получения дополнительных ресурсов.
Однако риски потерять контроль над ситуацией, как это произошло в Абхазии, сдерживают правящие элиты. Эксперты отмечают, что с 2022 года Абхазия стала получать больше внимания со стороны России из-за её стратегического расположения на черноморском побережье и более развитой инфраструктуры. Это создало у южноосетинской элиты ощущение «второстепенности», несмотря на формально равный статус двух республик.
В ответ Цхинвал начал активнее продвигать свою роль как «форпоста против НАТО», акцентируя внимание на военном сотрудничестве и противостоянии с Грузией. Одновременно власти республики инициировали медийные кампании о «подвиге осетинского народа», пытаясь конкурировать с Абхазией за символический капитал в глазах Москвы. В краткосрочной перспективе южноосетинское руководство будет искать способы «привлечь» дополнительное внимание своего патрона.
Таким образом, для Южной Осетии кризис в Сухуме стал как предостережением, так и возможностью. С одной стороны, Цхинвал вынужден имитировать реформы, чтобы избежать протесты, а с другой - пытается использовать абхазский пример для «мягкого давления» на Москву с целью увеличения финансовой помощи. В этом контексте элиты вынуждены балансировать между чрезмерной автономией, что грозит потерей контроля, и абсолютной лояльностью, лишающей их даже минимальной переговорной силы.
Внешнее давление
Южная Осетия признана лишь пятью странами: Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией (при экс-президенте Б. Асаде). Однако эти связи носят декларативный характер. Например, соглашение с Никарагуа о «торгово-экономическом сотрудничестве», подписанное в 2010 году, до сих пор не привело (и вряд ли вообще может привести) к значимым торговым поставкам. Попытки Цхинвала установить контакты с непризнанными государствами вроде Приднестровья или Арцаха (бывшей Нагорно-Карабахской республики) также провалились из-за их собственной изоляции.
Европейский союз и США проводят последовательную политику непризнания Южной Осетии, активизируя механизмы изоляции государства. Южноосетинские элиты склонны рассматривать попытки дестабилизации ситуации в Грузии и других странах Южного Кавказа как звенья одной цепи, инициированные западными державами.
Таким образом, Южная Осетия оказалась в ситуации между абсолютной зависимостью от России и тотальной изоляцией от остального мира. Единственный «козырь» Цхинвала - геостратегическая значимость для Москвы как инструмент давления на Грузию. Однако и эта роль не гарантирует стабильности, поскольку любое сокращение российского финансирования или смена приоритетов Кремля могут моментально обрушить хрупкую систему, оставив республику без ресурсов для выживания.
Таким образом, Южная Осетия на данный момент функционирует как некий «бюджетный протекторат» Москвы с крайне высокой зависимостью от российской финансовой и военной поддержки. Дальнейшее развитие республики может происходить по различным сценариям, каждый из которых будет иметь значительные последствия для российских интересов в регионе. Текущие проблемы Южной Осетии, такие как персонифицированная система власти, слабая экономика, высокая безработица и демографический кризис, создают основу для трёх возможных траекторий развития событий.
Часть III-я. Сценарии и выводы
Негативный сценарий
В рамках негативного развития ситуации политическая система Южной Осетии может столкнуться с глубокой фрагментацией из-за слабости институтов и персонифицированной власти. Конфликты между элитами, включая противостояние партий «Ныхас» и «Единой Осетии», усилятся на фоне нерешённых экономических проблем и продолжающегося падения доверия к президенту Алану Гаглоеву.
Коррупция и некомпетентность элит парализуют управление, блокируя реформы. Экономика в данном сценарии деградирует - повысится зависимость от российской помощи до 85-90% бюджета, что потребует увеличения финансирования до 9-10 млрд рублей к 2030 году. При этом неэффективное использование средств усугубит инфраструктурный и гуманитарный кризисы. Демографические проблемы достигнут критической точки. Население может сократится до 30-35 тыс. человек, безработица превысит 40%, а массовый исход молодёжи сделает республику окончательно нежизнеспособной.
Ухудшение ситуации в Южной Осетии потребует от России увеличения финансовой помощи, более активного вмешательства во внутренние дела и потенциального пересмотра стратегии в регионе. Неэффективное использование российских инвестиций, сочетание экономического кризиса с демографической катастрофой и усиление социальных протестов поставят под сомнение целесообразность дальнейшего поддержания независимости Южной Осетии. В итоге Россия может столкнуться с необходимостью выбора между увеличением финансовых затрат на нестабильную и деградирующую республику и полным пересмотром своей политики в отношении Южной Осетии.
Позитивный сценарий
При позитивном сценарии Южная Осетия продемонстрирует укрепление государственных институтов, снижение персонализации власти и успешную реализацию экономических реформ. Законодательная база будет модернизирована, эффективность госуправления повышена за счёт борьбы с коррупцией и создания новых компетентных элит. Экономика должна быть диверсифицирована, увеличив долю собственных доходов в бюджете. Развитие инфраструктуры и освоение природных ресурсов привлекут инвестиции в государственный сектор и создадут новые рабочие места.
Миграционный отток сократится, численность населения стабилизируется в пределах 45 тыс., а уровень безработицы снизится до 20-25%. Постепенное повышение пенсионного возраста пройдёт без серьёзных социальных потрясений. Инвестиции в образование и здравоохранение улучшат качество человеческого капитала.
Для России положительный сценарий означает появление более стабильного и самостоятельного партнёра и постепенное снижение финансовой нагрузки. Политическое влияние Москвы сохранится, но будет осуществляться через более эффективные институциональные механизмы или непосредственный контроль.
Реалистичный сценарий
Южная Осетия сохранит статус-кво. Формально политическая система останется фрагментированной, но без открытых конфликтов между элитами. Институциональное развитие будет заморожено - персонифицированное управление и незавершённая кодификация законодательства продолжат тормозить реформы. Экономика сохранит зависимость от России (на уровне 75-80% бюджета), а природные ресурсы останутся неосвоенными из-за дефицита инвестиций и неэффективного государственного управления. Реальный ВВП не превысит 5% от бюджета, а инфраструктурные проекты, если и будут завершены, то дадут минимальный эффект.
Демографический спад замедлится. Ежегодная миграция, вероятно, сократится до 700-800 человек, а численность населения стабилизируется.
Однако региональные диспропорции усилятся - 70-75% жителей сосредоточатся в Цхинвале, а сельские районы опустеют. Безработица (30%) и зависимость от государственного сектора сохранятся, но постепенное повышение пенсионного возраста пройдёт без массовых протестов. Для России данный сценарий означает сохранение влияния при росте ежегодной помощи до 8-9 млрд рублей к 2030 году.
Интеграция ограничится доступом южноосетинских товаров на российский рынок, а управление республикой потребует постоянного контроля из-за низкой эффективности местных элит. Сценарий минимизирует риски, но не решит системных проблем, оставив Южную Осетию в зоне «управляемой стагнации».
Выводы и рекомендации
Россия сталкивается с различными вызовами в отношениях с Южной Осетией. Одним из главных рисков является значительная финансовая зависимость республики от российской помощи. Покрытие Москвой более 75% бюджета создаёт существенную нагрузку на финансовую систему Российской Федерации, особенно в условиях продолжающихся санкций и других международных вызовов для экономики. Подобный значительный уровень субсидирования ставит перед Россией задачу разработки стратегии постепенного повышения экономической самостоятельности и более эффективного распределения финансов в Южной Осетии.
Не менее значимым вызовом является роль республики как «геополитического актива» Москвы. Чрезмерная демонстрация Россией готовности едва ли не любой ценой поддерживать «жизнеспособность» южноосетинской государственности нередко приводит к обратному эффекту - не республика становится полностью зависимой от России, а Москва может оказаться под значительным влиянием решений местных политических групп. Аналогичная ситуация уже возникала в отношениях с Абхазией и несёт риски для российской политики в Южной Осетии.
Вместе с тем существуют определённые противоречия между различными политическими силами Южной Осетии в их подходах к отношениям с Россией. Хотя все основные политические партии декларируют приверженность стратегическому партнёрству с Москвой, они по-разному видят глубину этих отношений и степень интеграции с российскими структурами. В конъюнктурных целях отдельные группы могут использовать «холодную» риторику по отношению к своему патрону, хотя их влияние на формирование политической повестки в республике ограничено.
В качестве конкретных рекомендаций для усиления российского влияния в Южной Осетии и предотвращения сценария, аналогичного абхазскому, можно предложить несколько мер:
1. Решение стратегического вопроса о будущности Южной Осетии – или она становится «российской» (Союзное государство, СНГ-Плюс) или все остается в действующем формате. Наиболее целесообразным и эффективным путем оздоровления ситуации представляется учреждение переходной должности Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южной Осетии, контролирующего управление жизнедеятельностью республики в ручном режиме в тесном взаимодействии с курирующими югоосетинское направление Управлениями Администрации Президента России, Советом безопасности РФ и МИД (посольство в Цхинвале).
2. Также целесообразным представляется сосредоточиться на проектах, не требующих больших финансовых вливаний, но способных дать положительный эффект для населения и экономики республики (статус особой экономической зоны) при ужесточении системы контроля над распределением финансирования Южной Осетии. Фактически - увязать объёмы вливаний с конкретными результатами предыдущих траншей, создав систему поэтапного предоставления финансов с промежуточной отчётностью. Подобная политика позволит сократить потери для российского бюджета от коррупционных схем в республике.
3. В экономическом секторе целесообразно было бы применить механизмы государственно-частного партнёрства с участием российского бизнеса, что позволило бы снизить нагрузку на федеральный бюджет России.
4. Продолжать поддерживать каналы неофициальной и неафишируемой коммуникации с Грузией по вопросам безопасности и гуманитарным проектам, исключив затрагивание статуса Южной Осетии, что позволит снизить напряжённость без компромиссов по принципиальным вопросам. Для сдерживания потенциальных провокаций рекомендуется проводить регулярные совместные учения российских и югоосетинских подразделений.
5. Следует также расширить интеграционные процессы в сфере безопасности. Важно исключить влияние местных властей на назначения руководящего состава в этих структурах. Данные шаги позволят создать эффективную и относительно независимую контролируемую структуру. Опыт подобного взаимодействия в 2004-2008 годах имеется.
6. В оборонном секторе есть необходимость рационализировать военное присутствие России, сосредоточившись на повышении эффективности существующего контингента без его количественного наращивания, для исключения негативной реакции Грузии. Военное сотрудничество и совместные учения необходимо осуществлять в формате оборонительной направленности, не предполагающем демонстративных манёвров вблизи границы с Грузией.
7. В информационном поле следует избегать резких высказываний по поводу условий потенциального диалога с Грузией, особенно если они касаются требований о предоставлении широкой автономии и тем более сделки о передаче контроля (временного, частичного, экономического, совместного) над Южной Осетией грузинским властям.
Реализация предложенных рекомендаций позволит Южной Осетии преодолеть системный государственно-управленческий кризис, а России сохранить и укрепить свои позиции в регионе, оптимизировать финансовые расходы и минимизировать риски эскалации с Грузией, создавая предпосылки для постепенной нормализации отношений в треугольнике Россия - Южная Осетия - Грузия с учетом совместного противодействия потенциальному вмешательству внерегиональных стран.
Цхинвал-Москва. июнь, 2025 г.

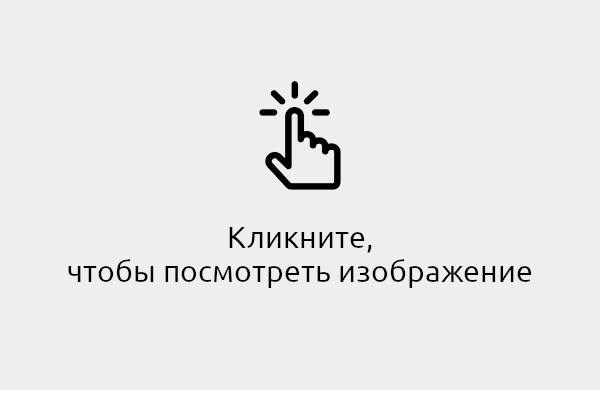
Комментарии читателей (0):