31 августа польские посты в Данциге были блокированы подразделениями СА и СС, 1 сентября Германия обвинила Польшу в нападении на ее территорию. В Данциге польские власти в городе и в порту были блокированы и разоружены в течение нескольких часов. Город ликовал — он возвращался «назад в рейх». «Schleswig-Holstein» в 04:45 открыл огонь по позициям на Вестерплятте. Они занимали пространство площадью примерно в 0,5 кв. км. Полуостров протянулся на 1400 метров, максимальная ширина его не превышала 550. Польский гарнизон (168 чел.) из артиллерии имел на вооружении только 75-мм. пушку. Она была безвредна для броненосца времен Первой Мировой войны, который практически в упор расстреливал польские укрепления и склады. 280-мм. и 150-мм. орудия стреляли с расстояния в 200 метров, эффект огня был сокрушительный, но взять Вестерплятте с налета немцам так и не удалось. Его комендант капитан Хенрик Сухарски сумел организовать оборону.
Городская почта Данцига была блокирована группой абвера уже в 04:17 1 сентября. Захватить ее врасплох не удалось. Поляки были готовы и оказали энергичное сопротивление. Здание почтамта было прочным (бывший гарнизонный госпиталь германской армии), оно было построено как опорный пункт, с расчетом на оборону. Здесь имелся склад стрелкового оружия – винтовок, ручных пулеметов, запас патронов и гранат. Почтальоны для Данцига подбирались особо – это были резервисты, прошедшие службу в армии и мотивированные на действия члены «Стрелецкого союза». Фактически это было подразделение польской армии в мундирах почтового ведомства, созданное еще в середине 1920-х для того, чтобы стать передовым отрядом при возможном захвате города. В сентябре 1939 г. в здании круговую оборону заняло около 50 человек под командованием сотрудника польской разведки подпоручика Конрада Гудерского. Для подавления огневых точек, подготовленных в окнах, немцам пришлось поставить на прямую наводку артиллерию. В 19.00 1 сентября оборонявшиеся почтовики сдались. После этого польские военные сохраняли под контролем только полуостров Вестерплатте. К «Schleswig-Holstein» присоединились эсминцы «Т-196» и «Von der Groeben». Позиции поляков между обстрелами бомбили пикирующие бомбардировщики. 7 сентября остатки гарнизона сдались.
БУДЬТЕ В КУРСЕ
В 4:45 1 сентября германская армия начала наступление по всей границе с Польшей. Атакующие повсюду действовали успешно. Началась германо-польская война. Президент Мосцицкий обратился к гражданам страны с призывом объединиться в борьбе с «вечным врагом» под началом Верховного Главнокомандующего и дать «достойный ответ агрессору, как это уже не раз бывало в истории польско-немецких отношений. Весь народ, благословенный Богом на борьбу за свое святое и правое дело, вместе с армией пойдет в бой плечом к плечу до полной победы». В 11 утра 1 сентября советник германского посольства Г. Хильгер известил НКИД о возвращении Данцига и о приказе, отданном Гитлером войскам. 1 сентября Гитлер заявил в рейхстаге: «Теперь мы решили обращаться с Польшей так же, как Польша вела себя [с нами] в течение последних месяцев».
Внешнеполитическая обстановка первых дней войны не была ясной. В особенности не ясно поначалу повели себя союзники воюющих стран. Еще 31 августа Чиано известил послов Англии и Франции о том, что в случае войны Италия останется нейтральной. 1 сентября Рим объявил об этом официально. Тем не менее Англия и Франция предприняли ряд превентивных мер на случай выступления Италии на стороне Германии. Это весьма беспокоило Муссолини, который даже выступил против такого недоверия. Для протеста были все основания — дуче не был готов к войне и не хотел в нее втягиваться. Известие об итальянском нейтралитете вызвали в Париже и Лондоне чувство облегчения, которое разделило и итальянское общество. Геринг поначалу отреагировал взрывом возмущения, но вскоре и он пришел в себя. В Берлине пришли к разумному решению — так будет лучше. После того, как эмоции сменил трезвый расчет возможных приобретений дружественного нейтралитета союзника, по словам Кессельринга, «разочарование сменилось полным удовлетворением».
В случае с Польшей все было наоборот. Политиков этой страны ждали одни разочарования. Действия их союзников также вызывали возмущения: Варшава обратилась к Парижу и Лондону за помощью, а те ограничились заявлением протеста против Германских действий. Правда, поляки не считали, что «так будет лучше». 1 сентября Форин-офис направил ноту в Берлин, предупредив при этом немцев — это не ультиматум. 2 сентября в 11:30 в кабинете Риббентроп принял в своем кабинете британского посла и зачитал ему ответ на заявление его правительства — Германия отказывалась признать язык ультиматумов и обещала ответить тем же на любые действия в свою сторону. В тот же день эта история повторилась и с французским послом. Франция готовилась к принятию решения о военных кредитах. Утром 2 сентября премьер-министр заверял членов финансовой комиссии парламента в том, что это решение вовсе не означает объявления войны. Бонне убеждал депутатов в том, что военные кредиты всего лишь помогут переговорам о мире. Перед обсуждением группа депутатов во главе с будущими вишистами Пьером Лавалем, Жаном Мистлером и Марселем Деа бурно обсуждала ситуацию. Один из них громко повторял: «Враг номер один – это большевизм, не забывайте об этом, не забывайте.» Днем 2 сентября Даладье выступил с речью в палате представителей. Он заявил, что Франция выполнит свои обязательства перед Польшей. Депутаты встретили его восторженными приветствиями, многие были уверены, что уже этого будет достаточно, чтобы заставить Берлин пойти на уступки. Разумеется, Гитлер этого не сделал. 2 сентября Чемберлен еще надеялся на сохранение мира, хотя и готовился к худшему. На это же надеялся Даладье – он требовал вывести войска из Германии и заявлял, что Франция готова повторить то, «что мы делали до начала этой войны».
Муссолини предложил созвать новую конференцию, но время для соглашений уже прошло. Правительства Англии и Франции вынуждены были выступить. За два дня британский парламент принял 17 законов, связанных с обороной и потребностями военного времени. Ни у кого не было сомнений относительно ближайшего будущего. 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. Во Франции правые были в шоке от случившегося. Три министра – юстиции, торгового флота и экономики - вышли из состава правительства Даладье в качестве протеста. Для Чемберлена это было, пожалуй, одно из самых горьких его поражений. Он сам признал это в своей парламентской речи. «Это печальный день для всех нас, — говорил он, — но больше всего для меня самого. Все, для чего я работал, все, на что я надеялся, все, во что я верил на протяжении моей политической жизни, — все это сейчас разбито и находится в руинах». Противник курса на умиротворение Роберт Ванситарт иронизировал: «Когда мир для нашего поколения сменился войной через пять минут, он начал с объявления, что мы не находимся в ссоре с немецким народом».
Отношения между англичанами и немцами начали портиться гораздо быстрее, чем этого хотели бы Чемберлен, Хор или Гитлер. Прежде всего это сказалось в борьбе за господство в Атлантике. Тот поначалу даже ввел строгие ограничения действий подводных лодок, в том числе с целью избежать обострения отношений с нейтральными странами. Однако уже через 9 часов после объявления войны немецкая подводная лодка U-110 потопила в 150 милях к западу от берегов Ирландии лайнер «Athenia». Эта атака гражданского судна без предупреждения была явным нарушением германо-английского соглашения 1936 года о правилах ведения войны на море. Капитан лайнера Джеймс Кук, узнав о начале войны, успокоил пассажиров, сказав им, что они находятся под охраной международного права, но на всякий случай предупредил их о том, что лучше быть готовыми и спать одетыми, а сам увеличил скорость и начал двигаться зигзагами. Именно потому, что «Athenia» шла на большой скорости противоторпедным зигзагом, командир субмарины принял судно за вспомогательный крейсер и решил атаковать его.
Убедившись в том, что потопил гражданское судно, капитан-лейтенант Фриц-Юлиус Лемп не сообщил о гибели лайнера и даже приказал глушить сигналы о бедствии, которые давали радисты британского парохода. Помощь опоздала, спасли 1300 чел., но погибло 118, 22 из них – граждане США. 12 из погибших американцев были немецкого, а 15 – ирландского происхождения и не симпатизировали Англии, но это уже не имело значения. Английская пропаганда дружно заговорила о потоплении в 1915 г. лайнера «Lusitania», что стало одним из поводов антигерманской кампании в Америке. 4 сентября Гитлер отдал приказ не атаковать пассажирские суда, даже если они следуют в ордере конвоя. Кроме того, он распорядился скрыть истинные факты, чтобы избежать конфликта с США. Геббельс начал обвинять Черчилля в том, что именно по его приказу был потоплен пассажирский лайнер. 26 сентября «Volkischer beobachter» заявил, что немецкая субмарина потопила британский эсминец, а «Athenia» стала жертвой британской подлодки. Разумеется, эта ложь не была успешной и привела лишь к дискредитации Германии.
Такого рода истории быстро привели к тому, что всем стало ясно - удержаться в стороне от ссор с немецким народом не удастся. Вскоре последовали новые удары по самолюбию британцев. Немецкие субмарины сразу показали, что они опасны не только для невооруженных судов. Уже 19 сентября немецкая подводная лодка U-29 потопила авианосец «Courageous». Корабль затонул за 15 минут, погибло 518 моряков. Общественное мнение Англии было в шоке, но все только начиналось. 14 октября 1939 года германская подводная лодка U-47 под командованием капитан-лейтенанта Гюнтера Прина реализовала дерзкий план Деница она проникла на базу британского флота Скапа-Флоу на Оркнейских островах и потопила там линейный корабль «Royal Oak». Вслед за этим немцы приступили к минированию морских подступов к Британским островам.
До войны Великобритания импортировала 68 млн. тт. грузов общего назначения, из них 38 млн. тонн – стратегических грузов, включая 12 млн. тонн жидкого топлива. Ввозилась железная руда, медь, алюминий, олово, свинец, нефть, шерсть, хлопок, джут, пшеница, маис, мясо, масло, чай, кофе, сахар и т.д. Германия также промышленное сырье – не эти статьи приходилось до 37% её довоенного ввоза. Но 69,3% германского экспорта и 55,5% импорта приходилось на европейские страны, и, следовательно, Германия не была столь зависима от перевозок по Атлантике, как Англия.
Торговый флот 3 тыс. океанских и 1 тыс. крупных каботажных судов общим водоизмещением 21 млн. тонн. Прервать британские морские перевозки означало победу в войне. У побережья Англии планировалось выставить 22 тыс. новых магнитных мин, но выполнить этот план не удалось. Геринг не обеспечил достаточное количество самолетов, а корабли сами не могли справиться с такой масштабной задачей. 23 ноября 1939 года немецкий самолет сбросил 2 магнитные мины на мелководье и они стали добычей англичан. В кратчайшие сроки была разработана техника размагничивания корпусов, новое оружие сразу же потеряло свою эффективность. Торговые суда были безоружны и поэтому было принято решение поставить на их палубы старые морские орудия. В основном это были мелкокалиберные пушки, для их обслуживания потребовались морские артиллеристы – на 5,5 тыс. судов было направлено 24 тыс. военных моряков.
Итак, война в Европе уже началась, а между тем для Советского Союза мир на Дальнем Востоке еще не был гарантирован. Новое правительство во главе с ген. Абэ уже 4 сентября 1939 года опубликовало декларацию, в которой говорилось: «Япония не намерена участвовать в войне, которая только что вспыхнула, и будет концентрировать свои усилия на разрешении китайского инцидента.» В декларации о нейтралитете в европейской войне, японское правительство призвало воюющих уничтожить причины, которые могли бы привести к «неблагоприятным событиям между Японией и протиборствующими сторонами в Китае». Новый премьер-министр был сторонником урегулирования конфликта в Китае, в его кабинете посты Военного и Военно-морского министров занимали ген. Сюнроку Хата и адм. Дзенго Есида, которые не сочувствовали союзу с Германией, также, как и министр иностранных дел. адм. Китисабуро Номура. Внимание к Советскому Союзу в связи с началом войны резко и заметно выросло. 9 сентября в Москве посол Японии в СССР Сигэнори Того при встрече с В.М. Молотовым предложил начать консультации по урегулированию конфликта. Посол предлагал создать советско-маньчжоугоскую и монгольско-маньчжоугоскую комиссии по демаркации границ, по недопущению конфликтов, признать район Халхин-Гола демилитаризованным, заключить торговый договор между Японией и СССР и т.п.
10 сентября последовал ответ Советского правительства. Оно соглашалось со всеми японскими предложениями, кроме демилитаризации и обмена территориями. Попытки японского дипломата сослаться на возможность длительного конфликта были сразу же отвергнуты, как попытка угрозы. 15 сентября на очередной встрече Молотова и Того в Москве было принято решение о прекращении боевых действий в Монголии, начиная с 20:00 15 сентября. В тот же день Зорге докладывал в центр — японцы более не планируют совместное с немцами нападение на СССР. Успехи советской дипломатии на западе и Красной Армии на востоке вызвали реакцию и в Чунцине. В сентябре гоминдановское руководство начало беспокоиться — не затронут ли изменения в европейской политике Москвы её отношение к республике. Советский полпред заверял китайских коллег, что «…СССР помогал, помогает и будет помогать Китаю…»
16 сентября на границе Монголии и Маньчжоу-го произошла встреча парламентеров. Японцы были неприятно шокированы тем, что с советской стороны к ним вышел молодой политрук. В молодости улыбающегося представителя РККА они увидели оскорбление своего достоинства. Но, так или иначе, им пришлось идти на уступки. За парламентерами последовали представители командования. Было принято решение о сохранении позиций, которые войска занимали на 15 сентября 1939 года. В тот же день войска 1-й Армейской группы получили приказ о прекращении огня с 2:00. В случае нападения японцев предписывалось немедленно возобновлять враждебные действия против них. 18 сентября на линии разграничения встретились уже официальные делегации и начались переговоры. 23 сентября было заключено соглашение о порядке уборки тел. На монгольскую территорию допускались лишь безоружные военнослужащие императорской армии. Произошедшее было «могилой для репутации» японской армии. Теперь ненависть к Советскому Союзу стала распространяться не только среди военных, но и в стране. Вместе с тем росла и обида на Германию.
Японцы старались сохранить лицо и свободу рук. 5-6 октября 1939 г. японские и Маньчжурские власти организовали в городе Хайлар торжества и парад по случаю «победы» на Номон-гане. Местное население, включая монголов, китайцев и русскую эмигрантскую общину, встречало «победителей» цветами и криками «Банзай!», но в целом все было ясно. Начались длительные консультации по вопросу о демаркации границ. 19 ноября было достигнуто соглашение о комиссии, которая должна была решить вопрос об уточнении границы в районе конфликта. В нее вошли по представителю от СССР, МНР, Японии и Маньчжоу-го. Работа комиссии должна была начаться в Чите и закончиться в Харбине. Накопившиеся проблемы медленно преодолевались. 31 декабря 1939 г. СССР и Япония подписали два важных соглашения — японцы должны были в ближайшее время заплатить последний взнос за КВЖД. Он погашался поставками японских и маньчжурских товаров на сумму 5 981 625 иен. Кроме того, на год был продлен срок действия рыболовной конвенции, который истекал 31 декабря 1939 г.
4 января 1940 г. советский полпред в Токио К.А. Сметанин в присутствии представителей Маньчжоу-го получил чек Промышленного банка Японии на сумму 5 809 565 иен 81 сен. Советский дипломат вручил представителям банка казначейское обязательство Маньчжоу-го на сумму в 5 981 625 иен. Расчет был произведен вовремя. 9 июня 1940 года в Москве было подписано советско-японское соглашение о монгольско-маньчжурской границе. Монгольские и маньчжурские власти должны были в кратчайший срок обеспечить проведение ее на детальной карте. Протокол о разграничении между Монголией и Маньчжоу-го был подписан в Харбине только 15 октября 1941 года.
Олег Айрапетов

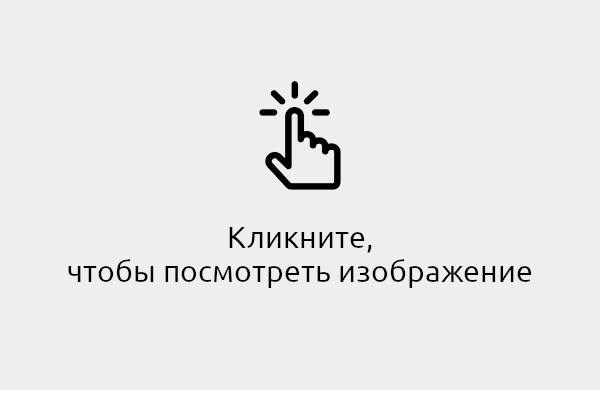
Комментарии читателей (0):